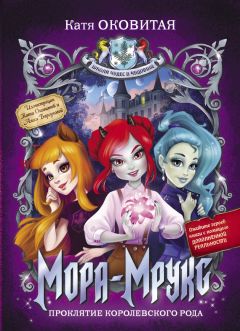Евгений Хохлов - Сны женщины
– Никакого бедствия. Это папашины мордовороты. Охраняют девушку! Оторвемся, не в первый раз!
– Не в первый раз? Интересно.
– Мне, представь, тоже. Хотя и не в первый раз. Я, видишь ли, устраиваю свою личную жизнь, а они мешают.
– Как ты собираешься отрываться?
– Без проблем. Сейчас будет поворот, выезд на грунтовку. Там такие замечательные кустики…
Почти сразу за поворотом она круто свернула с трассы, загнала машину в густой кустарник и выключила фары. Джип «папашиных мордоворотов» пронесся мимо со скоростью взлетающего самолета, и все стихло.
Все стихло. Низко висящая луна пробралась в салон машины. Ванда, демонстрируя свою сомнительную улыбку, повернулась к Шубину, посмотрела сквозь волосы, постоянно падавшие ей на лицо. Черный ее грим при луне волновал, соблазнял и – пугал до замирания сердца.
– Вот и всё. Видишь, как просто? Приехали, Фокусник. Начинается личная жизнь. Надеюсь, тебе тоже понравится.
– Главное, чтобы понравилось тебе, – галантно ответил Шубин, но голос его дрогнул, слишком уж необычна была девушка, он не привык к таким… к таким контрастным, к таким – ночным.
Он любил солнечный свет и пестроту цветов и бабочек. Он любил шампанское пузырчатое золото в тонком хрустале и широкие, застеленные белым ложа. Он любил простенькую ритмичную музыку и душистую загорелую женскую кожу. Еще любил, когда она облачалась в соблазнительные ночные одеяния – прозрачные шелковые облачка, с которыми он управлялся в совершенстве, – р-раз, и падает с плеч прохладный воздушный лоскуток, а кожа под ним горячая-горячая…
Куда его занесло?
Бледный лунный свет, теснота автомобиля, болотный запах синтетики сидений и бензиновая вонь, ядовитый горький хмель, разбавивший кровь, хриплый голос, слишком низкий для женщины, и мрачный готический макияж – не для него.
О чем он думал, спрашивается? И что он будет делать с этим обретенным сокровищем? Любить?!!
– Послушай, Ванда… – нерешительно начал он.
– Ммм? – было ему ответом.
– Послушай, Ванда…
Но Ванда не слушала. Она пошарила под сиденьем и потянула рычажок. Спинка кресла, в котором сидел Шубин, вдруг откинулась, и он, не удержавшись, опрокинулся на спину. Ванда наклонилась над ним, ее черные космы легли на его лицо и оказались жестче, чем он мог предполагать, почти проволочными. Ее улыбка дрожала совсем близко, трепетали бледные тонкие хрящики ноздрей, глаза под черными веками блуждали и блестели отраженным лунным светом.
– Теперь нужно расслабиться, – шептала она. – Расслабься, Фокусник, я все люблю делать сама… Ты разве не помнишь? Я думала, ты помнишь… Я думала, ты вернулся, потому что помнишь, как это прекрасно…
Левой рукой, не снимая грубой перчатки, она провела по его щеке, поласкала пальцами шею, не сумев расстегнуть, легко оборвала пуговку на воротнике рубашки, следом – вторую. Она была сильной и гибкой, как большая кошка. И необычайно – не по-женски – тяжелой. Прижав его к мякоти кресла своим телом, чуть сдавливая горло, она шептала у самых его губ:
– Они же ничего не понимают, убогие. Только следят и ловят меня. Пусть теперь ловят… И пусть только попробуют еще раз упрятать меня в психушку, подонки. Пусть только попробуют…
– Ванда… – хрипел он, полузадушенный и парализованный не столько страхом, сколько безмерным удивлением.
– Я хочу, чтобы ты еще раз вернулся, Фокусник, – дышала Ванда ему в лицо. – Я такого еще никогда не испытывала. Это так прекрасно – возвращение из ниоткуда, чтобы повторить. Мы встретимся. Я буду ждать тебя. Искать. Искать и ждать. Но для этого ты должен снова уйти. Это и есть любовь навеки.
– Ванда, что ты говоришь? – задыхался он. – Пусти, я не могу так. Так ничего не получится!
– О, только так… – прохрипела она. – Только так. Ты же помнишь… Ты должен помнить…
Она зажала ему рот перчаткой, прижалась всем телом, тяжело повела бедрами, в наслаждении содрогнулась и глухо простонала.
Три стилета, три длинных когтя, блеснув в свете луны, вылетели из ее правой перчатки, когда она сжала в кулак занесенную над ним руку. Стилеты были нацелены прямо ему в горло. Последнее, что он увидел, перед тем как потерять сознание, была кровь, фонтаном ударившая ей в лицо.
* * *Горячая кровь из его перерезанной артерии фонтаном ударила ей в лицо так, что она чуть не захлебнулась. Она всхлипнула и очнулась. Грудь и бедра горели, истерзанные желанием, внутри пульсировало.
– Шубин, все зря! – кричала и стонала она и терла лицо в надежде избавиться от горячей солоноватой влаги, что заливала глаза. – Все зря!
Она потянула простыню, чтобы вытереть кровь с лица, но крови не было. Только слезы, тяжелые, как кисель, соленые, горячие. Сердце колотилось.
– Все зря, – шептала она, приходя в себя, – счастье какое…
Сердце понемногу успокаивалось, лунная белизна вокруг, сгущавшаяся до синевы в складках драпировок, умиротворяла. Татьяна села в кровати, огромной и белой, как Антарктида, огляделась. Ничего не изменилось в белой спальне. Только выпито шампанское, а лед в серебряном ведерке растаял. Только лепестки подсолнухов, ставшие болотно-зелеными в лунном свете, привяли чуть больше, а рядом с вазой лежит надкушенное яблоко, огромное, как из райского сада, с порыжевшей на месте надкуса мякотью.
Татьяна выбралась из постели, одернула просторный ночной наряд с длинными рукавами и глухим воротничком, надетый не столько по случаю весенней ночной прохлады, сколько по причине злого сиюминутного аскетизма. Она прошлась по комнате, скрестив руки на груди, успокаивая сердце.
– Куда это годится? – сказала она себе. Обхватила обеими руками серебряное ведерко и глотнула ледяной воды. Потом вымочила в ведерке полотняную салфетку и приложила ее к лицу. – Куда это годится? Завтра я буду диво как хороша. Бледная и распухшая, как утопленница. Слышали новость? Юдифь утопилась в слезах. Куда там какой-то квелой Офелии? Браво-браво, – бормотала она. – Браво-браво. Интересно, как на самом деле выглядела наша безумная малышка, когда ее выудили? Будем надеяться, что зареванная Юдифь смотрится менее непристойно.
Татьяна еще раз окунула салфетку в воду, не отжимая, приложила к лицу. Холодная вода потекла по груди и животу, вымочила рубашку.
– Так все же лучше, – сказала она себе. – Теперь не слишком страшно подойти к зеркалу, чтобы – как там выразился наш любимый? – оценить размер бедствия. Вот именно, размер бедствия.
Она утопила салфетку в ведерке, обошла кровать, прихватив по пути надкушенное яблоко со столика, откусила от него и приблизилась к зеркалу. Фотография Елены лежала стеклом вниз, но это было к лучшему. Ее победного женского взгляда Татьяна сейчас не вынесла бы.