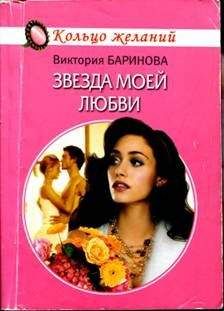Ольга Егорова - Розовая пантера
— Из-за тебя, — согласилась она, — только не думай, что я жалею об этом.
— А я — жалею. В самом деле, что это мы с тобой сидим, как два дурака, дома, глазеем на эти ободранные стены? Пять часов, еще не поздно. Можно пойти, проветриться.
— Можно, — согласилась она, подумав, что он впервые за все время их отношений приглашает ее на совместную прогулку. Было приятно, но немного странно.
— Так собирайся. Погода отличная, прогуляешься вдоль Волги, проветришься. А я к родителям зайду, две недели уже не был. Ты что так смотришь?
— Я думала… Я просто подумала, что ты хочешь вместе…
— Да перестань, что тебе там делать. Я думаю, ни к чему тебе с ними знакомиться. Они у меня люди консервативные, строгие. Начнут тебя пилить, почему ты меня не пилишь, чтобы я брак зарегистрировал. Мораль читать, что нельзя так просто жить, не расписавшись. Что я, не знаю, что ли. Сдались они тебе, мои родители.
Маша только кивнула в ответ — на самом деле никакого желания знакомиться со свекровью и свекром она не испытывала. А ходить по набережной все-таки лучше одной. Многолетние ее прогулки-медитации, сладкие островки одиночества, все же необходимого ей до сих пор как воздух, ни к чему нарушать привычный ритуал. Пожалуй, и правда стоит пойти прогуляться.
Она вернулась домой через два часа. Глеба еще не было. Она позвонила на мобильный, через секунду услышала телефонную трель у себя за спиной, обернулась — забытый телефон лежал на полке. Номера телефона родителей она не знала, да и не стала бы звонить, если бы знала. Наугад вытянула с полки книгу, раскрыла на первой странице: «…и целовались с песком на губах, думая о смерти».
Вздохнув, посмотрела куда-то вдаль и снова начала читать. Спустя какое-то время отложила книгу в сторону, отчетливо поняв, что читает по диагонали. Читает, а на самом деле ждет. Только кого? Кого можно ждать, когда столько лет прошло, когда одна только память осталась, кого можно еще ждать, кроме Глеба?
Он пришел в половине второго ночи. Маша задремала на диване полулежа, поджав под себя ноги. Не сказала ни слова в упрек, постелила постель, поинтересовалась самочувствием его родителей. В ту ночь ей показалось, что она чувствует от него какой-то запах. Чужой запах, как будто… «Запах женщины», — промелькнуло в сознании название фильма. Она отмахнулась — фильм, он и есть фильм.
Следующим вечером все повторилось сначала с той лишь разницей, что ей пришлось ждать его на двадцать минут меньше. Он вошел, привычно открыв дверь ключами, поцеловал в щеку, пробормотал под нос какие-то извинения. Она смотрела на него долго, а потом вдруг спросила:
— Послушай, Глеб, у тебя… У тебя есть кто-нибудь?
— Кто-нибудь? Что ты имеешь в виду? — поинтересовался он, будто не понял.
— Я имею в виду дурацкое слово, которым пользуются ревнивые женщины, — ты мне изменяешь?
— А ты ревнивая женщина?
— Не знаю, — ответила она, — пока не поняла.
Казалось, она на самом деле не чувствовала ревности. Только любопытство и еще совсем немного, но все же обиду.
Некоторое время он молчал, отвернувшись к окну. Потом повернулся, — она видела, что его лицо изменилось, побледнело слегка, и уже заранее знала, что сейчас наступит момент, который она все время оттягивала, тот самый момент, наступления которого она ждала с такой тоской.
— Есть, — ответил он, четко выговаривая каждое слово. — У меня есть. Работа. Эта долбанная, ненавистная работа. Чудовище, которое поглощает всю мою жизнь, день за днем, выдавая мне чеки со своей подписью. Желтые и фиолетовые бумажки. Редко — зеленые. Настолько редко, что ничего другого не остается, как пойти и разменять эти чертовы чеки. На вино и казино. Вот так-то, киска. А ты что-то другое хотела услышать?
— Я не знаю, что я хотела от тебя услышать.
— Не знаешь, — с яростью произнес он. — А вот я знаю, что хотел бы услышать. От тебя. Ты мне, кажется, обещала… Или это все приснилось?
«В страшном сне», — пронеслась мысль.
— Знаю, что обещала. Только пойми, мне тяжело. Я же рассказывала тебе, ты же знаешь, какие у нас отношения…
— Тебе тяжело! Тебе тяжело, значит? А мне, по-твоему, легко? Ты считаешь, мне легко?
— Я так не считаю, Глеб.
— Тогда какого черта! Какого черта строишь из себя нежную неврастеничку, почему ты не хочешь мне помочь, ведь я же живу с тобой, черт побери, у нас общая жизнь, и что хорошего в том, что ты выкобениваешься?
— Я не выкобениваюсь, — ответила она глухим голосом.
Он подошел к ней. Опустился рядом, положил голову на колени. Как в первый вечер, только теперь его волосы уже не казались такими чужими, прикосновение было привычным.
— Извини, — проговорил он и стал целовать ее руки. Каждый палец, каждый изгиб ладони. — Извини меня, Маша. Это все нервы. Она меня доконала, эта работа. Я понимаю, тебе тяжело. Не хочу тебя ни о чем просить…
— Я поговорю, Глеб. С ним, может быть, и не сумею, но я могу с матерью поговорить, она все, что угодно, для меня сделает. И для тебя, значит, тоже.
Некоторое время он молчал, потом поднял лицо:
— Поговори, Машка. Это ведь шанс, наш с тобой единственный шанс…
Она так не считала. Но она вообще не уверена, что в этой жизни у нее остался хоть один шанс. С тех пор, как перестала узнавать себя в зеркале, исчезли они, все ее шансы.
На следующий день она на самом деле позвонила матери. Договорилась с ней о встрече в кафе — с тех пор, как дочь вернулась из Москвы, мать видела ее исключительно на нейтральной территории.
Маша пришла в кафе раньше, села за столик, издалека еще увидела ее — женщину, даже близко не выглядевшую на свои сорок с небольшим лет, ухоженную, яркую, окруженную, кажется, любовью. «Береги ее», — вспомнила она слова отца. Вспомнила, как, пытаясь уберечь, глотала таблетки нитроглицерина, одну за одной, крошечные шарики, приближающие ее к смерти. И все-таки уберегла. Мать не узнала, да и до сих пор, наверное, не знает ничего. И не догадывается, что хрупкое ее счастье — в неведении.
Они разговаривали недолго, минут двадцать, почти исключительно по делу.
— Зашла бы как-нибудь, — услышала Маша, уже поднимаясь из-за стола. Ничего не ответила, потому что фраза на самом деле была слишком бессмысленной.
Вернувшись домой, рассказала Глебу о состоявшемся разговоре. Он зацеловал ее всю, шептал то и дело «киска», «умница», «спасибо тебе», потом помчался в магазин, расположенный неподалеку от дома, и притащил ей огромного плюшевого зайца с длинными, смешно торчащими в разные стороны ушами. Она никогда не любила мягких игрушек, но подарок приняла с благодарностью, с восторгом даже — не столько по поводу самого зайца, сколько по поводу этой бескрайней и сумасшедшей нежности, которая, оказывается, так приятна.