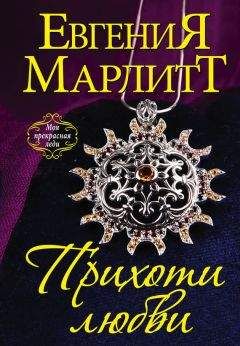Евгения Перова - Созданные для любви
Я успела пройти всего один курс, когда умерла Маняша. Это не красит нас с Леной, как дочь и внучку, но горевали мы по Маняше совсем не так сильно, как по Онечке. Я только подумала: Онечка прожила почти девяносто четыре года, как и Елена Петровна Несвицкая. Маняша умерла в семьдесят восемь. Я вряд ли доживу до пятидесяти. Леночка… Что же будет с ней?! Я никогда не верила в бога, хотя Онечка, конечно же, окрестила нас с Леной втайне от Маняши, но с этого момента я каждый день молилась, сама не зная кому, за свою дочь, выпрашивая для нее долгую жизнь! Пусть я умру в мучениях, лишь бы Леночка была счастлива.
Я успела проститься с мамой. Проститься и попросить прощения, что так мало ее любила, хотя она вряд ли слышала мои слова. Но перед самым концом Маняша вдруг очнулась и четко произнесла: «Хочу пить». Я напоила ее из поилки, потом вытерла ей рот. Маняша посмотрела на нас с дочкой вполне осмысленным взглядом:
– Соня. Лена.
– Она нас узнала, – прошептала потрясенная Леночка, но тут Маняша перевела взгляд куда-то за наши спины и с радостным удивлением сказала:
– Мама пришла!
Мы с Леной обернулись, словно и вправду ожидали увидеть Онечку, а потом переглянулись, осознав, что это означает. И тут лицо Маняши вдруг расцвело, помолодело, глаза засияли, она приподнялась и вскрикнула, протянув руку вперед: «Сережа!» – таким звонким девичьим голосом, с такой любовью, что мы обомлели. А потом упала на подушку и замерла.
– Мама? – позвала я, но она не откликнулась. Все было кончено.
Мы с Леночкой смогли поговорить о последних минутах жизни нашей Маняши только после похорон и поминок, на которые пришло неожиданно много народу.
– Как ты думаешь, кто это – Сережа? – спросила Леночка.
– Не знаю! – Я сама была в недоумении: вряд ли Маняша могла в последнюю секунду жизни вспоминать моего Евдокимова, которого никогда и в глаза не видела! Но потом меня осенило:
– Так это же… Точно! Наверняка это Лагутин!
В детстве я никогда не понимала, почему я Бронштейн, если мама – Лагутина, а бабушка – Матвеева! Потом Онечка рассказала мне про мамин скоропалительный брак и раннюю гибель ее юного мужа. Раньше мне казалось, что мама не меняла фамилию, просто не желая возиться с обменом документов, но теперь я думала по-другому. Мы достали семейный альбом и долго перебирали немногочисленные фотографии – конечно, больше всего было моих и Леночкиных.
– Посмотри! Какая Маняша смешная!
– Да, забавная! Это они снялись, когда Онечка с Федотом Игнатьевичем поженились. 1930 год…
Федот Игнатьевич и Онечка сидят, а десятилетняя Маняша стоит рядом с матерью. Новоиспеченные супруги очень серьезны, особенно Онечка, голова которой кажется окруженной сиянием из-за совершенно седых волос, а Маняша вытянула шею вперед и вытаращилась на фотографа, наверно, в ожидании обещанной птички.
– Какой Федот Игнатьевич импозантный, правда?
– И не говори! А Онечка уже тогда была вся седая. Сколько ей тут лет?
– Лет тридцать, – ответила я. – А вот, смотри, твой дедушка Илья!
– Красивый какой! Мама, ты на него похожа, очень! А Маняша-то какая тут блондинка!
– Это она под Марину Ладынину подделывалась. Помнишь, была такая актриса? «Свинарка и пастух»?
– Смутно! Ой, как мне эта твоя карточка нравится! Такой ангелочек! Знаешь, Онечка с ней не расставалась, с этой фоткой – под подушкой держала, правда! Ну вот… Мамочка, не плачь! Пожалуйста!
– Не буду, не буду! Ах, вот она, эта карточка! Маняша с Сережей Лагутиным! В Ташкенте, незадолго до войны…
– Это – Маняша?! – изумилась Леночка.
Снимок был любительский, слегка смазанный, да и выцвел сильно, но еще можно было разглядеть двух подростков с велосипедом. На первом плане стояла Маняша – тоненькая, хрупкая, с двумя длинными косами, перекинутыми за спину. Она смеялась, держась за руль правой рукой, а левой, судя по всему, отмахивалась от фотографа. Сережа стоял за велосипедом – высокий, с пышной шапкой светлых волос, он улыбался, глядя на Маняшу. Случайный кадр, маленький фрагмент ушедшей жизни, законсервированный в эмульсионном слое фотобумаги. Ташкент, лето, юность, счастье…
– «В сердце дунет ветер тонкий, и летишь, летишь стремглав, а любовь на фотопленке душу держит за рукав», – задумчиво произнесла Лена.
– Это чьи стихи?
– Арсения Тарковского. Как же она его любила, этого Сережу, если всю жизнь носила его фамилию! И позвала его в свой последний час! Бедная, бедная Маняша! И второго мужа потеряла… Одна всю жизнь, без любви…
И тут я зарыдала в голос, а моя дочь кинулась меня утешать – точно так, как я ее утешала после смерти Онечки. Я плакала и о матери, и о своей несчастной жизни, которой осталось так мало, а моя бедная девочка целовала меня и заговаривала мою боль, рассказывая о своих планах, которым не суждено было сбыться. На следующий день плакала уже она, узнав о моей болезни. Потом я уехала, чтобы пройти еще один курс химии и доделать кое-какие дела: я уже нашла жильцов для квартиры, оставалось лишь собрать необходимые вещи для переезда в Козицк. Не было меня всего месяц! Но за эти четыре недели участь моей дочери изменилась непоправимо…
Глава 5
Лена
Но покуда мы половинки одной любви,
Но покуда натянута вечной памяти тетива –
Ни один снегопад не коснется твоей головы,
Ибо я каждый миг умножаю тебя на два.
Зачем я только прочла записки своей матери! После встречи с Лыткиным и Кривцовым я и так пребывала в мрачном настроении, а эту тетрадку достала, чтобы отвлечься – отвлеклась, называется. Бедная мама! Как я была к ней несправедлива, как мало любила! И ничего уже не изменишь, ничего. День шел за днем, месяц за месяцем, и я все глубже погружалась в уныние. К середине апреля я дошла до такого состояния, что с ужасом ждала неизбежного июня с его цветущими липами: если уже сейчас мне так плохо, что же будет дальше?!
Никаких объективных причин для депрессии не было: киношники давно уехали и не собирались возвращаться, Лыткин не попадался мне на пути, музей процветал. В этом году к нам стали завозить группы иностранных туристов, и я с радостью ухватилась за возможность проводить экскурсии на трех языках, а штатные экскурсоводы с такой же радостью предоставили мне эту возможность: работала я бесплатно, исключительно из любви к искусству. Только эти экскурсии меня и оживляли. Я как-то погасла – или просто устала? Мне стало лень наряжаться, и я ходила все время в джинсах и каких-то необязательных кофтах, висевших на мне мешком, потому что сильно похудела. Волосы я остригла совсем коротко – так легче было закрашивать седину. Случайно видя себя в одном из усадебных зеркал, я отворачивалась, не в силах выносить собственную унылую физиономию – при виде бледного существа с вечно испуганными глазами, мне становилось тошно. Я забросила перепечатку Онечкиных дневников, потому что начинала плакать, лишь взяв в руки тетрадку. Впрочем, заплакать я могла и просто так, ни с того ни с сего, особенно дома, где все наводило на меня тоску.