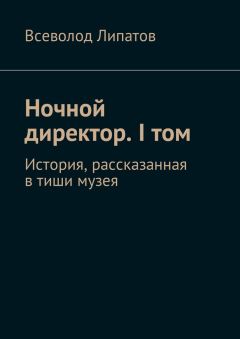Даниэль Буланже - Клеманс и Огюст: Истинно французская история любви
— Какие звуки вы больше всего любите?
— Голос человека, которого я люблю.
Про себя я похвалил Клеманс за столь удачный ответ, но, видимо, я рано обрадовался, так как мужчина с ежиком на коротко остриженной голове напустил на себя ученый вид и стал задавать уточняющие вопросы, подобно зануде-грамматисту:
— А какой у него тембр голоса? Тенор? Бас? Контральто? Или может быть, это даже тенор-альтино? Ваш ответ мог бы многое прояснить для нас…
— А часто ли вы их меняете? — поинтересовалась одна из журналисток. — Мы ничего о вас не знаем. Так не позволяйте же различным слухам циркулировать в обществе, не давайте им шириться и расти подобно снежному кому. Кстати, про вас говорят еще, что вы ведете образ жизни настоящей монахини-затворницы. Так ли это?
— Я верна прекрасному принцу из моих книг, и я уединяюсь вместе с ним.
— Прошел слух, что вы не одна пишете ваши книги, то есть что вы далеко не единственная их создательница… Не содержите ли вы мастерскую литературных негров? Ведь в наши дни — это самое обычное дело.
— У меня есть один-единственный литературный негр, и это моя тень, — промолвила Клеманс, — и я не трачу деньги зря, направо и налево.
— А куда вы их вкладываете? В какое-то надежное дело? Ходят слухи, что вы якобы обладаете недвижимым имуществом, крупным поместьем вроде тех, которые в конце ваших книг достаются вашим героям, с пятнистыми оленями и ланями в парке и с шикарными машинами, никогда не выезжающими за ворота, но медленно проплывающими туда и обратно по аллеям. Молва гласит, что вы якобы выходите из замка только для того, чтобы собственноручно покормить леопардов из вашего личного зверинца.
— А вам было бы приятно, если бы вышесказанное оказалось правдой? — спросила Клеманс. — Я постараюсь сделать так, чтобы вымысел стал реальностью. Да, и не забудьте про оранжерею с орхидеями, куда я буду ходить, чтобы полюбоваться их красотой, а также про заросли дельфиниума, где я буду опускаться на колени, когда мне захочется поплакать.
— Вы прекрасны, — вновь завел свое восторженный тип. — Вы прекрасны. Как, скажите на милость, кино могло забыть про вас? Я не знаю, у кого еще такие прекрасные синие глаза!
Все взоры обратились к этому багрово-красному от восторга мужчине. Шарль Гранд глубоко вздохнул, подумав, что пресс-конференция закончилась, и глаза его вновь открылись.
— Ну хорошо… Благодарю вас, дамы и господа, за то, что изволили прийти, — сказал он, — это все?
У меня в голове промелькнула мысль, что при слове «кино» его подсознание испытало настоящий шок. Быть может, он уже увидел, что Маргарет Стилтон потеряна для литературы и целиком отдалась камерам и экранам. Я пал столь низко, что подумал о том, что уход Клеманс в кино сделает Шарля намного беднее, а меня самого доведет до нищеты, разорит, пустит по миру.
— Некоторые из приглашенных не произнесли ни слова, — сказал я, — Маргарет Стилтон, сможете ли вы вынести еще несколько вопросов?
— Я вся в вашем распоряжении.
— Кто ваш любимый герой? — почти выкрикнула дама, сидевшая последней в ряду журналистов.
— Тот, кто последним был порожден моим пером.
— А кого вы ненавидите? Я говорю об обычной реальной жизни.
— Никого.
— А в литературе какой персонаж завораживает, очаровывает вас?
— Папесса Иоанна. Ей нет и двадцати лет, а она желает занять место самого скрытного, самого замкнутого, самого таинственного существа, наместника на земле Того, у кого нет ни имени, ни телесной оболочки, ни определенной формы. Она достигла этих заоблачных высот при помощи необходимого в таком деле мошенничества, дикого обмана. Постоянно извиваясь, как змея, она представляется мне образцом самого циничного поведения, самой жуткой насмешки. Она стала понтификом в юбке и была главой католической церкви более двух лет; в конце концов эта белокурая немка, на чье чело была возложена тиара, забеременела и искупила свою вину, когда самой природой была принуждена остановить торжественную процессию, направлявшуюся из Ватикана к Латеранскому дворцу, которую она возглавляла, и произвела на свет недоношенного ребенка перед церковью Святого Климента, как раз в том месте, где проходит Cloaca Maxima, закрытый сточный канал.
— Однако в ваших произведениях нет никаких следов антиклерикализма.
— Мне не до того.
— Мадам Стилтон, возможно, папессы Иоанны Восьмой вообще никогда не существовало.
— Вы полагаете, что мы, женщины, на такое не способны?
— Как бы вы определили свою общественную позицию, свое отношение к политике?
— Ожидание. Постоянное, я бы даже сказала, неизлечимое ожидание. Я больна этой болезнью, и я от нее страдаю.
— Вы не предвидите в будущем возможности счастья и согласия?
— Я пыталась описать удачные судьбы состоявшихся и достигших успеха людей.
— Ваши герои, если можно так выразиться, купаются в безмятежно-спокойных водах, одинаково теплых и приятных, так что поневоле возникает вопрос, известно ли им, что такое горе, боль, несчастья и беды…
— А вы не хотели бы походить на них?
Я видел, что Клеманс с трудом сдерживается сама и с не меньшим трудом сдерживает эту свору.
— Вы никогда не пишете о войне…
— Этими вопросами занимаются другие, и их так много. Я бы сказала, что война — это своеобразная религия, глубокая вера. Она настолько присутствует в нашей жизни, она ведь и здесь, и там, и там, так было всегда, и так будет всегда! И для меня было очень важно сыграть с ней какую-нибудь шутку, обмануть… но как можно было обмануть ее, кроме как заставить вас забыть о ней хоть ненадолго?
— Вы очень любезны, — сказал этот… как бишь его, ну, в общем, этот обладатель строгого судейского голоса, — но соизвольте объяснить нам суть ваших мыслей…
— Я не могу этого сделать. Порой они меня саму повергают в трепет, меня начинает бить озноб…
— Вы уклоняетесь от ответа? Увиливаете? Пытаетесь спрятаться?
— Ничуть… в любом случае я пыталась спрятаться за своими высказываниями не более, чем я пытаюсь спрятаться вот в этом стакане, из которого я пила воду.
— Вы хотите сказать, что идет процесс всеобщего остекленения? — произнес кто-то мрачным, каким-то замогильным голосом.
Воцарилось тягостное молчание, мертвая тишина, но Клеманс своим прелестным голосом нарушила это молчание и вымела вон всю мертвечину.
— Я решила распевать романсы на углу тех улиц, где убивают.
— Вы прекрасны! — вновь завопил краснорожий тип, которого должен был вот-вот хватить апоплексический удар. — Господа, она прекрасна! Посмотрите мои записи. Я не могу написать ничего иного!