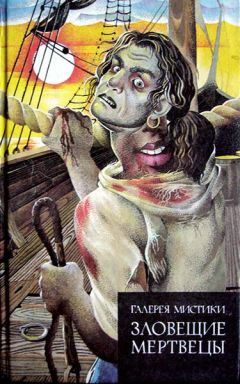Мария Арбатова - Визит нестарой дамы
Кудам, описанный в путеводителе как «променада», заложенная в шестнадцатом веке и ведущая к замку Груневальд, превращенная по приказу Бисмарка в парадную улицу, казался длинной рождественской панелью, на которую толпы пожилых немцев слетелись за замерзшим телом неблагополучных восточноевропейских современниц. Население гостиницы, да, по-моему, и всех гостиниц Кудама, под рождество почти целиком состояло из них.
В соседнем отеле в окне напротив через узкую улицу пожилой голый, лысый, солидный человек регулярно занимался онанизмом, держа в свободной руке журнал и помахивая им мне, изредка выходящей на балкон покурить. За неделю я привыкла к нему, как к пейзажу, и уж даже переживала, что, стоя на соседнем балконе, в соавторстве с порножурналом, не могу обеспечить достойной эрекции, за которой он, бедняга, ехал на Кудам, оставив семью и отложив дела.
Хотя с каждым часом пребывания в гостинице немецкие эрекции волновали меня все меньше и меньше, потому что от холода и раздражения я впадала в глубочайшую ангину, видимо, силясь температурой своего тела поднять температуру воздуха в номере. Теплым было только одно место – футляр включенного душа. Я вдвигалась в его кафельные объятия на час, обживая части тела, уже почти не принадлежащие мне от холода и ангины, чтобы запастись теплом на некоторое время жизни. А Берлин шумел и сверкал лампочками, как карусель.
Когда, покупая сардельку в киоске, я попросила пластмассовую вилку и нож, пожилой торговец подмигнул и бросил фразу, на перевод которой ушло все время поедания сардельки:
– Настоящая женщина никогда не просит вилку, потому что она умеет крепко держать в руках любую сардельку и получать от этого удовольствие!
На антикварном базаре приглянулась бронзовая открывалка в виде голой девки.
– Десять марок, – сказала посиневшая от холода фрау.
– Пять, – возразила я, хотя степень обморожения торгующей свидетельствовала, что отдаст за три.
– Пять марок? Никогда! Всякий раз, когда муж будет открывать ею пиво, он будет вспоминать о том, что вы будете делать ночью в постели, и в доме будет хорошее настроение всего за десять марок! – заорала она обиженно.
Как-то в девять вечера я вышла из Конрад-Вольф-зала, в котором русские артисты-эмигранты, съехавшиеся в Берлин по программе проекта, бойко репетировали Грибоедова, и побрела к метро. То, что в центре Берлина воскресным вечером нет ни души, меня не смутило. Нам всю жизнь поют, что у нас на каждом шагу разбой, а вот в столицах цивилизованных стран… Шла себе, радостно мурлыча под нос мотивчик из любимого Б. Г., пока на другой стороне улицы не появилась огромного роста тетка с обмотанной красным шарфом головой и не начала двигаться в мою сторону по газону, оказавшись усатым и бородатым турком. Он еще не бежал, а быстро шел, когда, как всякая истеричка, вместо того, чтобы отчетливо строить программу спасения, я подумала, что у меня в руках ручная фарфоровая кофемолка для Валеры; что когда турок повалит меня, она разобьется, а я с таким трудом разыскала такую в антикварной лавке; что у меня опасный день, и это может кончиться беременностью; что дай бог, чтоб у него не было СПИДа, потому что все остальное есть наверняка…
Пластика турка свидетельствовала, что меня ждут не долгие уговоры, а внятный удар по голове. Я вспомнила, что при мне никаких опознавательных знаков, кроме ключа от гостиничного номера, и в больнице или учреждении покруче меня долго не удастся идентифицировать, побежала на шоссе, по которому проносились машины, и начала махать руками. Машины не видели меня в упор. Я могла что-нибудь закричать, но не знала, что кричать на чужом языке? Могла позвать полицию, но каким способом? Могла убежать, но куда? Двери подъездов были заперты, а машины аккуратно объезжали меня, ослепляя фарами. Турок приближался, как страшилка в компьютерной игре, в голове через запятую бежали пасторальные осколки кофейной мельницы, травма, беременность, аборт, СПИД и неопознанное тело… И, поняв, что, чтобы помочь, немец должен испугаться не за меня, а за себя, я бросилась под первую идущую навстречу машину…
Взвизгнули тормоза. Я, конечно, бросалась не так, чтобы нетронутой турком испустить дух под колесами немца. Водитель выскочил белый как мел, тут же притормозили еще двое, меня окружили, турок побежал в сторону стройки. Водители защебетали дежурно-жалостливое мне и дежурно-злобное вслед ему. Вызвали полицию и, когда подъехал фургон, с пафосом чрезвычайного благодеяния передали меня. Ехать в участок и писать заявление не было ни сил, ни смысла, ни достаточного знания языка. Молоденький полицай, везший до станции метро, разглядывая меня, все еще трясущуюся от страха и прижимающую к груди прозрачный пакет с голубой кофейной мельницей, задумчиво вымолвил:
– Скоро рождество – всем хочется любви! – имея в виду свалившего турка, и я с большим трудом сдержалась, чтоб не разбить кофемолку о сентиментальную полицейскую голову.
На платформе метро ютилась только экзотическая троица: старый толстый бомж на костылях в соломенной шляпе, даун-вьетнамец с гитарой в руках и астеничного вида латинос, явно пережравший наркотиков. Троица двинулась на меня как на единственную добычу.
– Дай марку, – потребовал латинос по-немецки, он весь подергивался, у него плясали пальцы, губы, кисточки пончо, неподвижными были только стеклянные глаза. Поезда в немецком метро не бывает долго, персонал только на пересадках. Я понимала, что маркой не кончится, но предположить границы допустимости бомжовой смелости не могла, интересы этих не совпадали с интересами турка. Эти должны были возбуждаться на деньги, которые я, как русская дура, конечно же, все носила с собой, на шубу, на то, чтобы по причине экзистенциальной тоски дать по физиономии или столкнуть на рельсы.
Я растерялась больше, чем с турком, и начала верещать, что не понимаю по-немецки. Латинос потянулся грязной приплясывающей пятерней в карман моей шубы, в котором, к счастью, было всего десять марок. Даун возбужденно забубнил и начал постукивать по гитаре, а старик, подползший на костылях последним, начал руководить латиносом. А я раздумывала, бежать или не бежать, потому что латиносу только и надо было начать двигаться, стоя он еще как-то справлялся со своей агрессивностью, а уж догнав, избил бы по полной программе. Поезда не предвиделось, спасения тоже. Пугала не потеря десяти марок из кармана шубы, которые латинос уже держал в кулаке, все еще устно требуя одну марку, даже не потеря тысячи марок, запихнутой в карманы пиджака, а это дикое, надсадное, как крик, ощущение, что никто не заступится…
И тут старик неожиданно громко заорал на латиноса, а даун дернулся круглым деревянным лицом. По ступенькам сбегал молодой полицейский с блестящим, как гуталин, ротвейлером. Я двинулась к ним, но старик успел отбросить костыль, выхватить освободившейся рукой у латиноса десять марок и вернуть их в мой карман. Ротвейлер рыкнул как профи. Полицейский потребовал у троицы документы, они оказались только у старика, полицейский достал телефон и позвонил в участок. Отказавшись от претензий, я прыгнула в подошедший поезд, доехала до гостиницы, вмонтировалась в футляр душа и длинно и горько заплакала.