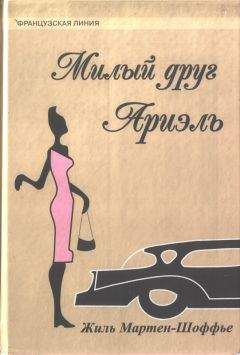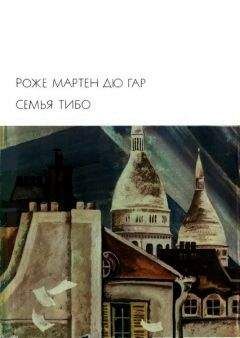Жиль Мартен-Шоффье - Однажды в Париже
— Мой муж. Мне нечего о нем сказать. Для меня это полторы тысячи евро в месяц, которые переводятся моей матери. Это все.
Я не настаивал. И тут тоже нет. Я молча наблюдал за ней. Я надеялся, что она возьмет меня за руку и скажет какую-нибудь красивую фразу. Совсем нет. Вместо того чтобы броситься в воду, чтобы плыть ко мне, она откинулась на спинку кресла, как будто следовало вначале отступить. По прошествии долгих двадцати минут ее первая фраза вернула меня с облаков на землю.
— Ты думаешь, я смогу показывать Манхэттен французским туристам?
Этот ответ в форме делового вопроса отразился в моем мозгу, как эхо от камня, который падает в колодец. Я ожидал уклончивого ответа от насмешливой парижанки, но не этого тона бухгалтера, склонившегося над счетами. Аньес поняла это. Чтобы меня успокоить, она повела рукой в сторону Средиземного моря:
— Ты видишь, Брюс, это море спокойное, синее, окруженное садами и освещенное солнцем. Представь все это пространство, но уже без берегов. Ты уже больше не будешь испытывать радость. Ты падаешь в ад. Просто одиночество среди огромной пустоты. Это немного похоже на то, что ты мне предлагаешь: покинуть парижские берега, где у меня сотни любимых мест, несколько друзей, моя семья, моя квартира и профессия, ради твоей нью-йоркской квартиры, своего рода лодки, где я буду знать только тебя, где у меня не будет никакого собственного дохода, и мне останется только следить, куда ветер дует…
Я, упав с небес, вернулся к грубой реальности. Если бы она нежно, поэтично попросила меня жениться на ней, думаю, молния спереди на штанах просто лопнула бы и я страстно поцеловал бы Аньес в губы. Она поступила совсем не так. Она взвешивала все «за» и «против». А ведь мы еще не были женаты! Мадам учитывала время, нужное на притирку друг к другу. От волнения я допил первую бутылку. И правильно сделал. Когда пьешь, появляется какая-то открытость ума. Вместо того чтобы погрузиться в меланхолию, я признал, что Аньес не так уж и не права. И вдруг я прямо стукнул в дверь ногой:
— О'кей, дорогая, не бойся. Мы же уезжаем не в глубь Дикого Запада. Манхэттен — это тот же Париж. У тебя в два счета появятся там твои любимые места. Даже если ты не выйдешь за меня замуж, «Континенталь» быстро поможет тебе получить грин-карт. И я не буду держать тебя в своей гостиной, как букет цветов. Если хочешь, мы подпишем контракт, я тебя найму как преподавательницу французского языка, и ты будешь получать зарплату. И речи нет о том, чтобы превратить тебя в домохозяйку.
Это было так четко, по-деловому, что мне было стыдно. Аньес — совсем нет. Улыбаясь, она согласилась, что в этом ракурсе мое предложение становится весьма соблазнительным, затем она поцеловала кончики своих пальцев и приложила их к моей руке. Я обожал этот ее жест. Голосом вахине[69] она закончила спор в своей обычной манере, жесткой и бархатной одновременно, мягко, но прямо произнеся то резкое слово, которое я не осмеливался выговорить:
— Спасибо, что ты сам заговорил о деньгах. Любовь и культура — все это очень красиво. Но культура без денег это как седло без лошади.
После чего Аньес одарила меня своей улыбкой Джоконды и выпила немного вина из своего бокала, в то время как я осушал свой. Все вновь становилось просто. Этот короткий страх, по сути, это была жизнь: чтобы появилась радуга, нужно сначала пролиться дождю. Я собирался жить с Аньес. Конечно же я ошибался. У нас еще даже не было нашей первой семейной сцены. Кстати, мне недолго пришлось этого ждать. Ужин с ее сыном не совсем удался.
Никогда не думал, что твердое расписание может быть обязательным для ужина в узком кругу со старой дамой и подростком. Ужасная ошибка! Аньес объявила, что мы идем к ее матери в 20:30, и это означало точно 20:30. Похоже, что в Париже у «приличных» людей принято устраивать ужин в это время — и изменить договоренность нельзя. К несчастью, я подписывал диски в «Вирджин» и вернулся в Бристоль только в 20:15. Аньес уже была раздражена. Пожар, мы опаздываем, нужно немедленно идти. Я должен был переодеться. Само собой разумелось, что для знакомства с ее матерью я надену галстук. А я оставил свои галстуки в «Пелликано». Пришлось звать консьержа и просить его одолжить мне свой галстук. У консьержа был только черный! В моем темно-синем костюме с этим галстуком я выглядел как служитель похоронной конторы. Я думал, что Аньес вцепится в меня ногтями, когда я попросил шофера по дороге на минутку остановиться у магазина цветов. Она недолго сдерживалась. Когда я показал продавщице пальцем на красивый букет гладиолусов, бесспорно большой, но не монументальный, Аньес набросилась на меня:
— Ну, хватит уже! Мы не в Майами, моя мать — не вдова диктатора Сомосы, а ты не рэпер из пригорода. Так что кончай изображать из себя героя фильма «Лицо со шрамом»[70]. Ты приходишь вовремя с красивым букетом из полевых цветов, а не устраиваешь представление янки-деревенщины, который опаздывает на два часа и является с цветочной композицией для банкета владельцев металлургических фирм! Здесь шестнадцатый округ Парижа, а не Маленькая Италия. Толстая итальянская мамочка в фартуке не будет подавать тебе спагетти, глядя собачьими глазами на нового мужчину в клане!
Бедняжка, она была в панике. В конце концов, весь этот выброс адреналина был из-за ерунды: мы позвонили в дверь ее матери вскоре после девяти часов вечера. Старушка даже не заметила нашего опоздания. В любом случае, она решила для себя, раз и навсегда, никогда не замечать ничего неприятного. Ее взбалмошная дочка приводит к ней в дом сумасброда янки? Неважно: разыграем обычную игру, а затем он уедет в свою далекую Америку — и дело с концом. Не стоит пытаться изменить характер Аньес или охладить Солнце — результат очевиден: миссия невыполнима. Она и не пыталась. Поскольку ее дочь об этом попросила, она устроила обычный архаический церемониал придворного обеда, но никогда она не будет делать каких-либо личных замечаний в адрес плебеев, которых принимает у себя. Я мог бы прийти даже в полночь, и мать Аньес сочла бы это вполне нормальным. Если бы я подумал о том, что следует понять этих стерв — французских буржуазок, — до того, как эта вошь Аньес пригвоздила меня к позорному столбу, то квартира ее мамаши мне бы обо всем рассказала. Осмотрительность, молчание, приличия, достаток — это племя закрывалось у себя дома, как закутываются в шаль. На полу был ковер во всю комнату и еще коврики. На стенах, обитых мольтоном[71], — еще драпировки, на каждой двери и на каждом окне — занавеси с позументом. Тут можно перерезать горло своей служанке, и ни один сосед ничего не услышит, столько слоев ткани здесь было. Скрытность любой ценой. При этом выставлены напоказ культура и деньги: все стены были увешаны картинами в рамках. Настоящий музей. Не говорю уже о размерах гостиной в формате «Бристоля». Две застекленные двери выходили на балкон, и оттуда открывался вид на квартиру напротив, точно такую же, в этом же доме. Можно было подумать, что ты на кладбище. Эти люди заняли лучшее место и рассчитывали без шума занимать его до конца своих дней. Американец, сын разносчика и секретарши, я быстро поставил диагноз: я был на их пути как камень. С одним только отличием: камень был величиной с «Ритц» — и такой нюанс отнюдь не мог ускользнуть от проницательности этих людей. Так что мамочка будет любезной. В любом случае, вывести из себя этих живых мертвецов благородного происхождения — это все равно что заставить зебру выйти из ее полосок. Мать Аньес спросила меня, как прошло наше путешествие в Италию, и начала бесконечно перечислять названия очаровательных городов, которые были ей знакомы. Флоренция и Сиена, Равенна и Венеция, Рим и… Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи, и так далее и тому подобное. Ее голос, ее спокойствие, ее постоянно не сходящая с губ улыбка, целые полки ее подушек, ее смягчающие свет абажуры шептали: «Все хорошо. Не будем повышать тон. Дадим Аньес то, что она просит. Через пару часов грелка и бай-бай». При этом у матушки Аньес был шарм, и, глядя на нее, можно было представить, что станет с ее дочерью через двадцать пять лет. Получалась неплохая картина: еще изящная, очень чистая кожа, лицо почти без морщин, седые волосы средней длины. Мать Аньес была одета в обтягивающее, но скромное серое платье, доходившее до шеи и закрывавшее руки. Высокие каблуки, массивный серебряный браслет, бриллиант-солитер в золотой оправе на пальце правой руки — все детали были в наличии. Как в костюмном историческом фильме.