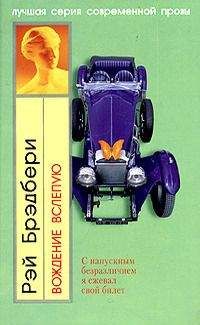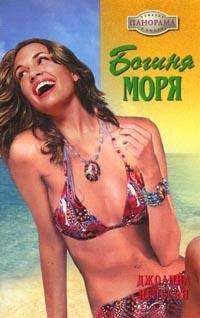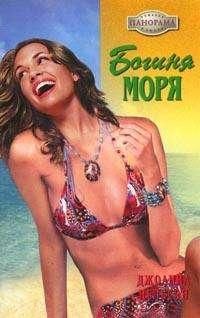Линда Грант - Все еще здесь
— Ясно. Евреи, вернувшись в Германию, подтверждают все, что твердили о них антисемиты. Алчные капиталисты, пауки-ростовщики…
— Хорошо, можно отдать деньги на благотворительность. Или устроить в здании детский приют, больницу, школу, дом престарелых, наконец!
— Я думаю, у них там все это уже есть.
— Понятия не имею, есть или нет. Заодно и узнаем.
— Не понимаю, какой в этом смысл — исполнять последнее желание женщины, перед смертью находившейся в безнадежном маразме. Будь она в здравом уме, как ты думаешь, стала бы взваливать на нас такую ношу?
— Не знаю. Мы знаем одно: это ее последнее желание.
— Ну и кто будет этим заниматься?
— Мы оба. Я займусь юридической стороной дела, в Германию поедешь ты.
— Почему я?
— А почему бы и нет? Ты не раз бывала в Восточной Европе, знаешь, как там дела делаются.
— Но почему просто не оставить все, как есть? Зачем копаться в прошлом?
— Это ты меня спрашиваешь? По-моему, из нас двоих в прошлом копаешься ты.
— Это совсем другое дело! Это моя работа! Но мамина фабрика… Пойми, в этом нет никакого смысла. Просто потеря времени.
— Мы обязаны выполнить последнюю волю мамы.
— Я не согласна.
— «Почитай отца твоего и мать твою, и продлятся дни твои на земле, которую Господь твой и Бог твой дал тебе».
— Да-да. А если не обрученную девушку изнасилуют, она должна выйти за насильника замуж. В Писании, Сэм, я подкована не хуже тебя. Мерзкая книга, сплошное женоненавистничество и садизм. Бог отцов наших — маньяк, и евреи, которые продолжают лизать ему задницу, ничего, кроме презрения, не заслуживают.
— Верно. Но и стоящие часы дважды в день показывают правильное время. Алике, ты можешь объяснить, что произошло там, в палате? Ее мозг был безнадежно поврежден, она давно потеряла речь, она физически уже не могла говорить, коль уж на то пошло, и все же заговорила. Как ты это объяснишь? Доктор это объяснить не смог. Чудес не бывает, мы это знаем, но, может быть, это знак?
— Знак чего?
— Понятия не имею. Может быть, знак, что мы должны выяснить, что случилось с фабрикой.
— Но зачем, Сэм? Что это даст?
Мы выросли в семье, где богом был прогресс — воплощенный прежде всего в развитии медицины, в поисках и находках новых лекарств, излечивающих самые страшные болезни. Над народной медициной, астрологией, гомеопатией мы попросту смеялись. Слова «прежний», «естественный», «традиционный» не вызывали в нас никакого отклика. Мы требовали доказательств. Фильмы о Шоа мы смотрели с каменными лицами и сухими глазами; нас интересовало правосудие. Не сострадание к жертвам, не возможность почувствовать и пережить их боль — только правосудие. Мы хотели знать, что зло наказано, хотели увидеть, как полуживых, трясущихся, изуродованных артритом стариков вытаскивают из их укрытий и сажают на скамью подсудимых, хотели услышать показания свидетелей, раскрывающих тайны пятидесятилетней давности, хотели знать, что сыновья и дочери этих стариков, гонимые стыдом, никогда не будут знать покоя. Вот о чем я говорила по телевидению, вот что пыталась вбить в головы студентов на лекциях, как бы там ни возмущались робкие и жалостливые души. Помню, одна девица в сочинении о Нюрнбергском процессе написала: «Вместо того чтобы развязывать мировую войну, нам надо было бомбардировать Германию любовью». И очень удивилась, когда получила пару.
«Но если я так думаю! — возмущенно восклицала она. — Имею же я право на свое мнение, разве нет?»
«Нет, если это идиотское мнение», — ответила я. Еще один промах — еще один пункт в списке моих преступлений против бедных студентов.
Так кому нужна эта груда кирпичей? Фабрика в Дрездене для меня была мифом, сказкой. Нашим фамильным преданием. Преданием, не нуждающимся ни в доказательствах, ни тем более в материальном воплощении. Но для Сэма, очевидно, это было не так. Мелани изучила его вдоль и поперек; накануне вечером, в постели, когда до меня в моей спальне смутно доносились звуки их голосов, она, должно быть, внушала ему, что исполнить последнюю волю матери — дело священное и что отправиться в Германию должна именно я. И Сэм, разумеется, согласился, не подозревая, что за ее словами стоит тайный замысел по спасению меня от соблазна, а Джозефа Шилдса — от возможного крушения семейного очага.
Что же до меня — я полагала, что последние мамины слова, произнесенные коснеющим языком, и вправду являют собой знак, но указывают совсем не на то, что думает Сэм. Это знак, что мы никогда не свободны от родительской воли; и из могилы родители продолжают управлять нами, кротко и чуть насмешливо улыбаясь в ответ на все наши порывы к самостоятельности; знак того, что, хотя мы, дети иммигрантов, казалось бы, можем сами выбирать себе судьбу, это иллюзия, все для нас предопределено рождением. Разве сама свобода — свобода для меня жить во Франции и восстанавливать заброшенные синагоги, для Сэма — купить себе квартиру на Альберт-Док и заплатить наличными, для Мелани — тратить кучу денег на благотворительность, — не обусловлена наследством, оставленным нам родителями? Если верить бумагам, которые подписала я тем утром, наше наследство состоит из дома на Крессингтон-парк, вблизи реки, кое-каких драгоценностей, нуждающихся в оценке, и небольшого полотна Люсьена Фрейда, купленного отцом в Лондоне в начале пятидесятых у старого армейского товарища. И еще — семейного дела, корни которого уходят в немецкий город у границы с Польшей. Город, который — как и наш Ливерпуль — выжил, хотя должен был умереть.
Когда я думаю обо всем, что потеряла мама в четырнадцать лет: любящих родителей, брата с непослушными каштановыми кудрями, учившего ее ездить на велосипеде, и жену брата, которая подарила ей первый в жизни альбом цветных картинок; друзей, с которыми она играла в куклы и в плюшевых мишек в детском саду на втором этаже дома с видом на Эльбу, неспешно текущую по полям Саксонии; дом, где прошло ее детство, где каждый кирпичик был для нее родным; страну и культуру, писателей и композиторов которой она привыкла считать своими; язык, на котором она с тех пор разговаривала лишь сама с собой да еще с немногими ливерпульскими беженцами на благотворительных музыкальных вечерах, — так вот, перебирая в мыслях все, чего она лишилась, я не могу понять, почему ее так угнетала именно потеря фабрики. Но сами ее чувства — гнев, обида на судьбу, ощущение потери того, что принадлежало тебе по праву, — мне понятны.
Она росла в Дрездене — легендарном городе-музее, сокровищнице великих полотен. С итальянским Ренессансом она знакомилась по подлинникам Рафаэля, Тициана, Корреджо, Джорджоне, Веронезе и Тинторетто, с немецким — по Дюреру, Гольбейну и Кранаху. И живопись — еще не все; архитектура в Дрездене тоже сказочная. И все же мама ни разу не съездила в свой родной город.