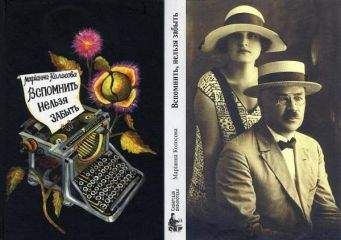Галина Щербакова - Вспомнить нельзя забыть
– Девуля! Не дрожи! Человек так устроен. Ни атеистам-дарвинистам, ни истовым христианам, равно как и фарисеям, не изменить устройства нашего тела.
– Любовь, – ответила Оля, давясь словом, как коркой.
– Это по другому ведомству, киска! По уровню развития души. Читай книги, помогай бедным, люби. Одно другому горло не перегрызет. Дух и тело. Они ведь едины? Или поврозь? Чертовы букашки!
Это она уже им всем, Лека с Вудстока, бросила на прощанье. И выпорхнула, оставив в запахе туалета тоненький дух сигареты и соблазнительности греха.
5
Он небрежно, как бы между делом, обхватил девчонку за плечи и властно повел в недостроенный карусельный круг. На круг этот уже давно плюнули устроители парка, он врос в землю, и только крепкие ребята умудрялись раскручивать его дурной силой, пуская тучи пыли.
– Покатаемся? – предложил парень.
– Тут грязно, – сказала Оля, отпихивая ногой пивную бутылку. – И все сломано.
– А тебе надо чисто? – почему-то зло ответил он.
Но зла она не услышала. Она слышала мужчину, у которого были какие-то другие мысли, она их уже чуть-чуть понимала, и от них у нее колотилось сердце.
Парень изо всей силы ногой двинул круг, тот скрипнул, но не завертелся, у него, видимо, случилось свое сопротивление материала, может, круг уже что-то чувствовал, у него был опыт и он хотел защитить эту дурочку, которая влюбленно шла навстречу гибели, и ни одной человеческой гадины не было вокруг, чтобы ее защитить. Парень же еще раз пнул круг. И тот поддался, сделал небольшой поворот. И пока он его делал, парень усадил девчонку на грязные доски.
– Ну, – сказал он. – Будем кататься?
Олю всю затрясло от неведомого ощущения, она даже дышать перестала, чтоб сдержать в себе ужас, но почему-то и восторг, что, оказывается, абсолютно не совпадало с настроением парня. Он ведь ждал от нее слез, моления, царапанья, а эта шла в руки, как идет в ладонь вода из-под крана. Но и для нее все было неправильно. Все! И ужас уже рождал отвращение, а отвращение рвануло вверх – бежать, бежать! Но было поздно. Ладони грубо закрыли ее крик.
Олю нашли много позже, обескровленную, полумертвую. А парней взяли других, тех, что с ее двора.
Девочка была обречена. Каких спецов только ни возили к ней родители. А тут еще гадкий слух, что она, это уже по словам Жорика и его приятелей, сама могла пойти на круг. Что они, девчонок не знают? Она была вполне готова, если позовут. Как она на них пялилась!
И уже те, кто видел в девочке Дину Дурбин, задумались глубокой мыслью, что от американских фильмов все и идет. Такое показывают, хоть святых выноси. А эти, что со скрипочками, они особенно падкие до блуда. В народном искусстве этого гораздо меньше. Все хористки, как одна, с понятиями, верующие, не таскаются по темным аллеям, потому что тексты поют правильные. И даже припомнили девочку-виолончелистку, которая – надо же! – ставит свой инструмент абсолютно неприлично – в расставленные ноги. А ей всего лет двенадцать, не больше. Потрепали, потрепали грязными языками искусство струн и вернулись к своим корытам. А девочка так и лежала полумертвая, сшитая, где рвано, тяп-ляп, потому как особенно никто не старался. Не видел смысла. А она все жила, не умирала.
6
Она бы и не жила вообще. Вспетушился молодой ординатор, что привез девочку по «Скорой». «Да что ты знаешь? Да что ты понимаешь?» – кричали на него. Но он заставил врачей спасать ее. И вызвал Михеева, аса «Скорой помощи». Тот только присвистнул. Но сделал все, что мог.
Девчонку сшили на живую нитку, пальцами выковыривая из нее бутылочное стекло. Она не могла выжить ни по каким прогнозам, но выжила телом, оставшись в беспамятстве.
– Лишняя мука родителям, – сказал уже Михеев. – Будут ждать, не дай бог дождутся, а она уже совсем другая. Ни девочка, ни женщина. Инвалид. Из нее же вынули почти всю материальную часть. Живая мертвая.
– Но ведь живая, – тихо сказал тогда молодой ординатор.
– Это тоже неизвестно. Кома – это все-таки предсмертие, а не преджизнь. А если – не дай бог – жизнь, то я бы себе такой не пожелал. Одно счастье: пока она этого не знает, и сколько будет не знать – никому неведомо.
Когда у ординатора возникла возможность уехать в Германию на стажировку, он уехал не думая. Больше всего его стали интересовать пограничные случаи. И хотя ему объясняли, что всякая болезнь, даже насморк, может быть пограничьем, он ринулся в полостную хирургию, хирургию большой беды. Как-то незаметно женился, получил гражданство, незаметно развелся. И то, и другое было без сердечного надрыва, чисто, по расписанию, по-европейски. За пять лет стал знаменитым доктором.
Первая передышка в спринте жизни привела его на родину. Родители его ездили к нему регулярно, радовались успехам сына в работе, огорчались, что в личной жизни у него полный швах, да какие его годы, тридцати еще нет и все при нем (нам такая жизнь и не снилась). Его никогда не тянуло в Россию. От воспоминаний о ней остался драндулет «Скорой», в котором даже больных животных возить срамно, и недоубитая девочка с шелковыми слабыми волосами. Он думал: тогда бы его знания, его возможности, но разве ее можно было тогда довезти не то что до Германии, просто до Склифа. Больница по дороге, вот что ей, бедняге, досталось. И то! Времени терять было нельзя, ведь ее привезли, в сущности, мертвую. Трепыхалось сердечко просто по глупости шестнадцати лет.
А через пять лет он приехал в Москву. Удивился. Развел руками. Такой кругом плюмаж.
Не сразу пошел в больницу, где когда-то проходил ординатуру. Москва оглушила, заманила в свой вертеп. И не будь он человеком холодноватым и разумным, не сносить бы ему башки… Вот в этот момент возможности отнятия головы он в качестве противоядия и прописал себе посещение московских больниц. Плюмажа там не наблюдалось. И как-то все устаканилось в душе. Не потому что он порадовался отставанию медицины от той, в которой работал. Совсем нет! Просто мухи отделились от котлет. Родина-мать была все такой же смертельно больной, хотя денег имела немеряно. Она носила бриллианты и ездила в «Мерседесах», но брюхо ее по-прежнему было вспорото и сочилось кровью пополам с гноем. Гулять с цыганами в ней было стыдно, проматывать деньги позорно, значит, возвращаться в нее, как понимал Михаил, не имело смысла. Во всяком случае для него. Он серьезно сказал родителям, что хочет их забрать к себе. Странное дело, но они отказались.
– Поздно привыкать к чужому хорошему, – сказал отец. – Я читал, как бежавшие после революции барыни мыли чужие подъезды своими кружевами. Но у них были кружева. И были мысли. У нас нет ни того, ни другого, сынок. Мы обугленные головешки огня русских бунтов. Мы пахнем бедой, а неприлично въезжать в чужой дом с дурным запахом.