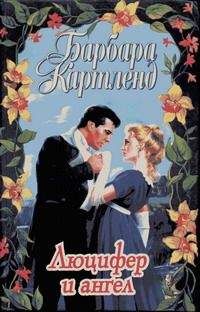Михаил Чернов - Мосты. Не разводи себя
– Ну что, собираемся? Или оставить тебя в постели на весь день?
– Нет, конечно, поехали, только дай мне еще поваляться.
– Хорошо, но не слишком долго.
«Какой же скучный мудила», – думаю я о себе.
– Да, да… Ты спешишь?
– Ну, признаться, есть кое-какие важные дела, на которые мне не слишком хочется опаздывать…
Она улыбнулась еще чуть шире, и в ее зрачках заиграл какой-то новый огонек:
– Хотя, кого я обманываю…
Следующий час мы валялись в постели: я – на спине, она – спиной на мне – такая поза, что я обнимал ее руками так, что мог без лишних проблем придушить в любой момент.
Следом за этим, я снова утонул в нас. Мы лежали, разговаривая о будущем, о возможных вариантах его развития, о моей вазектомии после рождения третьего ребенка. Мы говорили об этом шутя, но отдавая отчет в том, что причина тому – проживание в разных столицах. И мы не тешим себя иллюзиями о счастливой безоблачной любви на расстоянии. Любовь на расстоянии – безрадостное говно, которое не несет в себя никакой правды. Однажды я читал, что в штатах есть даже негласное правило «тысячи миль». Если кому-то непонятно, то это циничная граница любви на этом самом расстоянии. То есть, если ты в дали от своей «половинки» более чем в тысяче миль, то измена будет не таким уж и зашкваром. Ведь вряд ли она узнает, да и ты не дурак, чтобы ей об этом рассказывать. Для нас, русских, такая истина скорее дикость, чем ежедневность. Во-первых – мы слишком честные и искренние лицемеры, чтобы такое признавать. Во-вторых – у нас и на десяти километрах происходят такие дерьмовые вещи, какие американцы себе позволят разве только на луне. Но, к слову о них, наверное, сложнее всего тем, кто находится на расстоянии в девятьсот девяносто девять миль – вот уж истинная безысходность. И не потрахаться и о любимой толком не вспомнить.
– Миш.
Обожаю эту интонацию. Слегка тихий, немного серьезный голос приводит меня в напряжение и готовит к чему-то дико сексуальному, а этим может быть как секс, так и беспросветная ссора.
– Ань.
– Скажи…, -она слегка запиналась, – а вот если бы жизнь сложилась так, что. Ну. В общем, ты бы смог принять меня к себе, зная, что я ношу чужого ребенка? – наконец-то закончила фразу она.
Знаете, мне всегда нравились женщины с мужским характером. Ну, такие решительные, бравые, знающие чего и когда хотят. И она одна из них, возглавляет список, поэтому ее нерешительность в интонации говорила о том, что вопрос относительно серьезный.
– О-у, даже так. Ты беременна и тебе некуда идти?
– Нет, ну серьезно, смог бы?
– А принять к себе это в полном понимании этой фразы? То есть кушать на одной кухне, делить одно одеяло и встречать рассветы в одном дворе?
– Да.
– И есть и пить из одной посуды, курить одну сигарету и вытирать задницу одном мотком бумаги?
– Ну… Типа того.
– То есть ты готова стать со мной двумя нищими бродягами?
– Ну, я серьезно, Чернышев!
Вот так вопрос. Нет, а что мне сейчас ответить? Надо тянуть время, чтобы подумать об этом, благо сарказм и иронию еще никто не запретил. Нет, это было бы очень нелегко. «Так, думай» – твердил я себе, пока нес всякую ахинею. Сначала минусы: ребенок, которого она будет носить – не от меня. Теперь плюсы: она будет жить со мной, мы будем любить друг друга и этого киндера, всю его жизнь или хотя бы лучшую ее часть. Потом, однажды, она скажет ребенку: «Ты весь в своего мудака-отца!», а я, с научной точки зрения, и не при чем вроде как. Пожалуй, чаша плюсов объективно переполнена:
– Да, но за мной остается право выбора имени!
– В смысле? Почему? Зачем?
– В самом деле, зачем человеку имя, будем звать его просто «сын». Или «мелкий». А потом он подрастет, и станет «почти взрослым».
– И как ты собираешься его назвать?
Нет, на самом деле мы уже пару лет назад, еще когда были вместе, обсудили этот вопрос, придя к общему решению, что назовем сына «Роберт». Не знаю, то ли имя такое хорошее, то ли в честь одного бармена, который присутствовал в самые тяжелые минуты первого года нашей истории. Может, потому что Роберт де Ниро – гениальной актер, каковым я его, правда, не считаю. Но дело точно не в звучности с отчеством, которым я его награжу, потому что «Роберт Михайлович» – извините, но звучит и правда дерьмово.
– Роберт, как еще то.
– А, это я и так знала, ведь так же хочу.
– Ну, многое могло измениться в твоей голове.
Я смотрел в ее глаза и продолжил ответ:
– В общем, я бы смог, да, смог. Нет, стоп, он точно будет славянином? Я не расист, но всегда представлял себе своего сына голубоглазым шатеном, а не брюнетом с густыми бровями, явной страстью к стрельбе в воздух, АвтоВАЗу и Тимати.
– Да, разумеется, что ты.
– Нет, можно от еврея… В конце концов, бизнесмен в семье лишним точно не будет, особенно учитывая то, что я им так и не стал.
Пока я улыбался на весь этот диалог, в голове всплыл еще один вопрос. Знаете, моя голова похожа на бездонное море, в котором регулярно всплывают тонны дерьма, которое я гордо именую «вопросы».
– А фамилию ты оставишь себе свою? В смысле, сделаешь двойную, так?
– Конечно.
– Ну, да, о чем это я. Погоди, а у ребенка тогда какая будет? Ведь моя?
– Из соображений адекватности и общественных традиций – да. Или может…
– Нет, Ань, если ты настаиваешь… Но подумай о нем, как ему будет с этим житься?
– С чем?
– С этим.
– С чем «с этим»?
– С именем «Роберт Михайлович Чернышев-Мараказов».
– Мараказов-Чернышев!
– Да хоть как, все равно не очень.
– А ты серьезно, это все правда?
Я прекрасно понимаю, о чем речь, но все равно спрашиваю:
– Что – все?
– Ты серьезного готов принять меня даже с чужим ребенком?
– Ну, воспитывать то ты… Ой, мы, его будем вместе, так? Поэтому главное это спокойствие за здоровье твоего донора спермы.
– Вот зачем ты так?
Она не любила пошлые шутки. Почти все женщины не любят пошлые шутки. Они считают это чем-то неправильным и грубым, не имеющим отношения к юмору в принципе. Наверное, это главная причина, по которой принято считать, что женщина и чувство юмора это как верблюд и эспрессо.
– А как еще мне назвать наглеца, осмелившегося осеменить тебя? Так, давай еще раз – ты точно не беременна?
– Точно.
– Значит, тебе еще можно курить, идем.
– Ну, давай еще поваляемся…
Секретное оружие номер тридцать восемь – «Давай еще поваляемся». Работает безотказно, в каком бы я не находился состоянии. За исключением тех минут, когда мне дико хочется пить или курить. Эти две жажды обычно оказываются сильнее. Таким образом, сегодня было необычное утро:
– Хорошо, давай.
И мы снова легли поудобнее. Я обнял ее чуть крепче, аккуратно взял за руку. Взял за руку так, чтобы это не было чем-то очевидным и пиздец многозначащим, но было заметно, что мне это приятно.
– Как же хорошо, что все получилось именно так.
Потом мы обсудили сложности ее работы, быта, жизни в целом. Я отметил, что без меня она вообще никуда, и мы начали собираться на прогулку в центр города. Но это была классика – я успел собраться за десять минут, а следующие сорок (всего лишь) ждал Аню. Ждал я ее на кухне, выпуская дым в форточку под пристальным надзором ее кошки. Я не помню породу этого существа, возможно, она и вовсе дворняга, но она и с этим фактом очень мила и забавна. Слово, которое описывает ее лучше всего – дурочка. Пока мы общались глазами, я кривил различные рожи.
– Все нормально? Давно с кошками разговариваешь?
– Последние полтора года приходится практиковать общение с женским полом в самых разных его проявлениях.
– Извини, что я выгляжу, как чмо, хорошо?
Чтобы было ясно, «как чмо» – это серые приталенные джинсы, клетчатая красная с черным рубашка и распущенные, а затем убранные в хвост, густые волосы. В таком образе она похожа на подружку какой-нибудь рок-звезды восьмидесятых или девяностых годов. Не в России, разумеется.
– Хорошо, я буду тебя соответствовать, – с такими словами я поправил свое неаккуратное то, что зову «прическа» и расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке.
Поехали мы на общественном транспорте. На загородной дороге не было видно ни машин, ни людей – только свора школьников лет двенадцати терлась около остановки. Отличило это место сегодняшнего дня от четырехгодичной давности одно лишь наличие светофора на «дико оживленном» пешеходном переходе. В дали мы увидели нашу маршрутку, отметив улучшение зрения Ани после операции. Позже мы подумали, что других маршруток здесь и вовсе не бывает, поэтому она могла просто угадать, а не увидеть номер. Но на это она толкнула меня, назвала дураком, а я бережно отвел ее от лужи, водой и грязью из которой ее могла окатить эта машина смерти.
Машиной смерти я ее называю не случайно. Первая причина это ее техническое состояние. Вторая – внешнее. Вся в грязи, с забрызганными фарами и скрежетом подвески, она как бы предвещает, что за рулем будет сатана, а за проезд соберет смерть в робе. А на торпеде, как и должно быть, стоит иконка Божьей Матери или кого-то из тех. Но что еще хуже – дело в людях, которые пользуются услугами этого катафалка общественности. На их лицах, в их глазах, у их речи, нет ничего, кроме отчаяния. Такое ощущение, что эти люди не верят в светлое будущее. В то, что «завтра» будет лучше чем «вчера» или хотя бы «сегодня». При всем уважении к их тоске и досаде, к их причинам, а это – безработица, низкой уровень доходов и духовного развития, я не понимаю этих людей. Зачем вот так легко принимать образ жизни таракана, не пытаться от него избавиться, а в довесок к этому – постоянно жаловаться, да не на себя, а на все, что угодно, кроме себя. Я уверен, что самые прожженные из них считают причиной всех своих бед лихорадку Эболы или последний альбом Тимати. Потому что «Всю страну разворовали, а эти певцы и подавно гребут эти ворованные деньги». Люди без стремлений? Отчаявшиеся путники, топчущиеся на месте? Жертвы, которых везет вниз лифт с обожженными кнопками и расистскими надписями на стенах? Не знаю, как еще определить этот тип людей, но виноваты только они сами. Отсюда, кстати, вытекает и их уровень культуры. Но, честно, я не хочу даже думать о том, что всем и без того известно. Тем более, на соседнем сидении сидит Она. Мы достаем наушники, и каждый уходит в свой мир отдыха посредством наслаждения любимыми и не очень исполнителями. Так было всегда – индивидуальный мир отдыха. Правильно ли это в отношении мужчины и женщины? Видимо, нет.