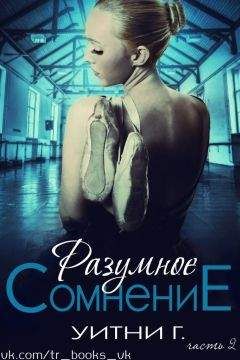Вероник Олми - Первая любовь
Мы вышли в парк, и нам стало легче. Кристина мне объяснила, что сегодня после обеда они празднуют день рождения Мариетты, одной из здешних обитательниц. Кристина ее очень любит, потому что она похожа на меня.
— Она тебе напоминает меня?
— Она на тебя похожа.
— Внешне?
— Что?
— Ты хочешь сказать, что ее лицо похоже на мое?
— Нет, конечно, Мимиль, ты же не монголка.
— А тогда чем она меня напоминает?
— Она все время хочет уехать. Все время, понимаешь? И потом, она всегда говорит мне: "Пошли, Кристина! Мы с тобой сейчас немного пройдемся!"
— Значит, я такая же?
— Ты не такая, как наши родители, так ведь?
— Они иногда тебя навещают?
— Да нет. Нет.
— А ты помнишь, что говорил папа, когда ты сюда переехала?
— Нет.
— Ему казалось странным, что твой приют называется "Голубые бабочки", неужели не помнишь? И он повторял: "Бабочки никогда не переносят болезней" — и что тебе будет тут хорошо.
— Нет, он так не говорил. Он говорил, что на бабочек наступают, идут, не видят и наступают, меня это пугает, я думаю об этом и очень переживаю.
— Да нет, он имел в виду зиму, когда они окукливаются. Они прячутся под землей, и, когда ты идешь зимой, земля у тебя под ногами немного подрагивает, так ведь? Ты как будто их баюкаешь, а бабочки крепко спят.
— Есть какие-нибудь новости о Ринго?
— О муже Шейлы? Нет, никаких новостей.
— И о Шейле тоже ничего?
— Нет, в общем-то тоже ничего.
— Ты собираешься здесь остаться?
— Не собираюсь, я еду в Геную повидать Дарио… Ты помнишь Дарио?
— Нет.
— Мы с ним не виделись тридцать лет.
— Ты его не узнаешь, и он тебя тоже не узнает. А ты вот как сделай: повесь табличку, напиши свое имя и повесь.
— Что ты! Я его сразу узнаю!
— Ты ведь у нас хитрая, да, Мимиль?
Мы с Кристиной провели вместе детство, она живой свидетель, но лишенный памяти. Каждый вечер я рассказывала ей о Дарио. У нас это называлось "история", она непременно требовала ее и слушала как радиопостановку или сказку. Я никогда ничего не придумывала. Я рассказывала, что произошло в этот день. Если мы виделись с Дарио, я рассказывала, где мы с ним встретились, и как он был одет, и какой он красивый. Дарио был для Кристины чем-то вроде волшебного принца или киноартиста. Она мечтала о нем. Я не рассказывала о нашей близости, я просто говорила: "И когда он увидел, что я иду… "
— Ты была в красивом платье?
— Да, в красивом, не прерывай меня.
— А завтра ты наденешь джинсы?
— Да, надену, не годится два раза подряд надевать одно и то же.
— Конечно, конечно.
— Когда он увидел, что я иду в красивом платье..
— Ты идешь..
— Помолчи. Он пошел мне навстречу, медленно, очень медленно, словно потихоньку начинал танцевать на тротуаре, подошел и меня поцеловал.
— В губы?
— В губы.
— При всех?
— При всех.
— Мимиль!
— Что?
— Он от тебя без ума!
Кристина любила Дарио почти так же, как я, по-своему глубоко, но недолго, и теперь она о нем позабыла. Мы не могли о нем поговорить. Она осталась моей сестричкой, но со старостью встретилась намного раньше, годы жизни оказались для нее тяжелее, чем для меня, жизнь ей всегда давалась труднее, ей приходилось напрягать все силы ради самого простого движения, и все, чему ее учили, принимала с полнейшим доверием.
После обеда мы праздновали шестидесятилетие Мариетты. Гирлянды из красного кретона украшали небольшую сцену, над которой висел плакат: "С днем рождения!", написанный большими зелеными буквами, и синим мелом было приписано: "Мариетта". За прошедшие тридцать лет на этом плакате тридцать раз писали мелом "Кристина", а я ни разу к ней не приехала. У моей сестры новая семья, друзья, похожие на меня, как она мне сказала, и наконец-то она живет окруженная терпением.
Мариетта была очень маленькая, просто удивительно, до чего крошечная, и все время воздевала ручки, словно королева, которая приветствует своих подданных, и радостно улыбалась.
Все вокруг, как только встречались с ней взглядом, снова и снова повторяли: "С днем рождения!" — как будто еще не поздравляли ее. И она благодарила, как будто слышала поздравление в первый раз. И всякий раз удивленно и счастливо всплескивала ручками. Кристина была очень горда тем, что я приехала, она представила меня воспитателям и друзьям, обнимала за шею и повторяла: "Мы всегда заодно, Мимиль, так ведь?" Один пансионер спросил меня: "Вы сестра Кристины из Парижа?" — а потом сообщил, что они видели Эйфелеву башню, год тому назад они все ездили в Париж, тогда не переставая шел дождь, они очень много пели в автобусе, но Кристина отказалась выходить из комнаты общежития, она видела только окружную дорогу и автостраду.
— Почему ты мне не позвонила? Почему не сказала, что ты в Париже, я пришла бы к тебе, ты бы побывала у меня! Почему ты мне не сказала?
— Я тебя огорчила?
— Очень, ты меня очень огорчила.
— А муж у тебя симпатичный человек?
— Ты же его знаешь, Кристина, ты же видела Марка!
— Да-а.
— Мы же приезжали повидаться с тобой на такси, и он поставил тебе кассету Майка Бранта, когда мы ехали по бульвару Мирабо, помнишь?
На Кристину снизошло вдохновение, она сосредоточилась в поисках воспоминаний, пристально глядя на меня маленькими близорукими глазками, и наконец сказала:
— У настоящих такси есть счетчик.
— И что же?
— Есть, я знаю.
— Марк катал тебя бесплатно, он сделал тебе подарок, потому что ты моя сестра.
— В настоящих такси есть медальоны.
— Медальоны? Ты имеешь в виду… на ветровом стекле?
— Да. Медальоны. И даже крестики.
— Ты думаешь, что у моего мужа такси ненастоящее, ты это имеешь в виду?
— Нет. Не это.
— Думаешь, я тебя не знаю? Думаешь, не вижу, что у тебя что-то на уме? Ну-ка говори, что ты мне хочешь сказать!
— Ох ты и хитрая, ох и хитрая!
— Да, хитрая, и ты тоже очень хитрая, так что говори, что не так с такси моего мужа, говори, говори!
— Не с такси не так, а с мужем.
— Какая ты недобрая, Кристина! Ты понимаешь, что ты меня очень огорчаешь? Получается, что ты не захотела повидаться со мной в Париже, потому что не любишь моего мужа?
— Мимиль, я чувствую, что мы обе разволнуемся.
Что правда, то правда, я разволновалась. У Кристины удивительная особенность непременно разволновать меня. С ума сойти, сколько нужно терпения с моей сестрицей, и, с ума сойти, как я от всего этого отвыкла. Она причинила мне боль. Своей неуклюжей прямотой — не в бровь, а в глаз, своим простодушием, граничащим с безжалостной прозорливостью.