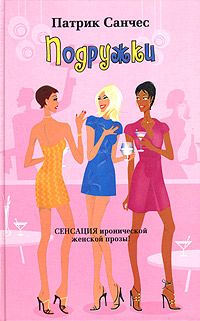Ольга Шумяцкая - Эль скандаль при посторонних
— Эвелина Модестовна фон Ризеншнауцер! — сказала она своим английским голосом с большим внутренним достоинством.
— А у меня боксер! — брякнула Мурка, протягивая пухлую лапу с наколкой.
Модестовна едва заметно поморщилась. Муркино замечание было ей неприятно.
— Ризеншнауцер — это не порода, а фамилия! — недовольно произнесла она. — Мой дед, немец по происхождению, закладывал первый камень в фундамент Московской консерватории.
— А я думала, ее закладывал Рубинштейн! — опять ни к селу ни к городу брякнула не в меру эрудированная Мурка.
Модестовна поморщилась еще сильнее.
— Рубинштейн, разумеется, закладывал, но... как бы вам сказать... в переносном смысле. А мой дед — в самом что ни на есть прямом. Он был прорабом на строительстве. Как видите, я пошла по его стопам. Без остатка посвятила себя музыке и воспитанию нового поколения российских музыкантов. А вы, по всей вероятности, мама... ммм... Марии?
Мурка набрала в грудь побольше воздуха. Она всегда так делала перед тем, как соврать.
— Я не мама. Я Мария и есть, — сказала она глубоким басом.
Модестовна вздрогнула.
— А вам... извините... ммм... который годик пошел? — робко спросила она.
— Осьмой миновал, — тем же басом ответила Мурка, но тут же спохватилась и закашлялась, делая вид, что это она так, случайно ошиблась. — Двадцать первый, — прокашлявшись, доложила она.
— Ну хорошо, — вздохнула Модестовна. — Будем оформлять, — и потянулась за бумагами.
— А прослушивать? Не будете? Вдруг я вам не подойду?
— Нет, деточка, — сказала Модестовна и погладила Мурку по голове. — Прослушивать не будем. Мы в свою хоровую детскую студию «Заинька» берем всех желающих, потому что, — тут она с ног до головы оглядела Мурку, — потому что все дети талантливы.
Модестовна достала папку с бумагами и долго-долго выуживала из нее листочек. Выудив листочек, она долго-долго расправляла его на столе. Расправив листочек, Модестовна долго-долго наливала чернила в чернильницу-непроливайку. Налив чернила, она долго-долго снимала волосики с перышка. Сняв волосики, она долго-долго обмакивала перо в чернила. Она вообще все делала долго-долго. К тому же чернильный прибор достался ей от деда и находился не в очень рабочем состоянии. Приходилось на него тоже тратить драгоценные часы. Все это время, пока Модестовна охорашивала свой чернильный прибор, Мурка сидела молча и очень от этого страдала. Мурка вообще не могла долго молчать. Она вообще молчать не могла. Мурка говорила даже тогда, когда ее никто ни о чем не спрашивал. Более того, она говорила даже тогда, когда ей нечего было сказать. В таких случаях Мурка наливалась помидорным соком и выпячивала губы, как будто ее распирало изнутри. Потом она начинала клокотать и закипать, так ей было невтерпеж. Слова рвались у нее изо рта на волю, а смысл этих слов был Мурке без разницы. Однажды она ехала в такси, а таксист ей попался крайне неразговорчивый. Мурка и так, и эдак пыталась вовлечь его в беседу — ни в какую. Мурка посидела молча, налилась помидорным соком, выпятила губы и начала пузыриться. А таксист как раз в тот момент делал один ужасно трудный маневр, пытался выбраться из сугроба и подавал машину задом. Он как раз газанул назад, когда Мурка не выдержала и крикнула что есть силы:
— Время — вперед!
Перепугавшись до смерти, таксист рванул вперед, Мура дернулась и расквасила свой нахальный нос о приборную панель. Что бы вы сделали на ее месте? Правильно. Поехали домой, легли в постель и положили на нос холодную мокрую тряпку. Но наша Мура никогда не давала поблажек судьбе. Она доехала до пункта назначения, где категорически отказалась платить по счетчику под тем предлогом, что таксист не уследил за ее драгоценным здоровьем, за которое лично отвечал. И не заплатила.
Вот и сейчас, глядя, как Модестовна возится со своими перышками, Мурка почувствовала глухое раздражение и поняла, что долго не протянет. Она закрыла рот ладошками, но эта предохранительная мера не помогла. Рот открылся самопроизвольно. Можно сказать, он распахнулся. Мурка понятия не имела, что из него вылетит.
— Так точно! — вылетело изо рта, и Мурка сильно удивилась.
Модестовна тоже удивилась.
— Что точно? — спросила она, близоруко щурясь. — Я еще ничего не записывала.
Но Мурка ничего не ответила. Она боялась сморозить какую-нибудь ерунду. Она снова прикрыла рот ладошками, и он снова распахнулся, не дожидаясь разрешения.
— Всегда готов! — гаркнула Мурка, потому что больше ей было сказать совершенно нечего.
Модестовна подозрительно посмотрела на нее из-за очков.
— Пройдемте, — сказала она сухо. — Я познакомлю вас с педагогом.
— Мужчина? — деловито осведомилась Мурка.
— Пульхерия Ивановна — наш старейший педагог, выпускница института благородных девиц, — еще суше сказала Модестовна. Мурка заметно приуныла. — Сам Керенский целовал ей руку на выпускном балу, — между тем продолжала Модестовна. — Между прочим, по классу вокала она всегда имела «отлично». Ее любимый романс «О, смерть, молю, поторопись» имел бешеный успех во всех великосветских гостиных.
— Не поторопилась? — спросила Мурка.
— Кто? — не поняла Модестовна.
— Ну, смерть. Не поторопилась? Пульхерия Ивановна чай не девушка уже?
Модестовна онемела.
— Пульхерия Ивановна, — наконец вымолвила она, — никогда не была замужем. Я говорю вам это для того, чтобы вы ненароком не позволили себе какую-нибудь бестактность, милочка. Войдем. — И она открыла высокие дубовые двери.
Мурка вошла.
В огромном зале на сцене стояли пять первоклассников. Жалобно звучали их тоненькие голоски. «Ласковое солнышко вышло из-за тучки...» — уныло выводили они. Перед первоклашками помещалась крошечная уютная старушка с румяным булочным личиком. Старушка резво размахивала руками и подпевала довольно приятным меццо-сопрано: «Я хлебну из горлышка сладенькой шипучки!».
— Пульхерия Ивановна, дорогая, — негромко сказала Модестовна. — Оторвитесь на минутку. Я привела вам новую ученицу.
Старушка широко улыбнулась, радостно закивала головой и еще резвее замахала ручками, что означало: «Сейчас, сейчас, только закончу свою партию. А вы пока полюбуйтесь на моих ангелочков».
— Подождем, — сказала Модестовна, усаживаясь в кресло.
Но Мурка ждать не стала. Мурка шагнула прямо на сцену и протянула Пульхерии лапу с наколкой.
— Я тут насчет «Нарьян-Мара» интересуюсь, — грубо сказала она.
Пульхерия посмотрела на Мурку, перевела взгляд на ее лапу и уставилась на наколку. Глаза ее начали расширяться и через минуту уже катились прочь из орбит. «Шипучки-и-и-и!» — тянула Пульхерия, и голос ее уходил куда-то в поднебесные выси. Он становился все тоньше, тоньше, и наконец, взвизгнув, как несмазанные тормоза, Пульхерия отскочила прочь от Мурки. Тут она подавилась собственным голосом, закашлялась, захрипела, согнулась пополам и схватилась рукой за горло.