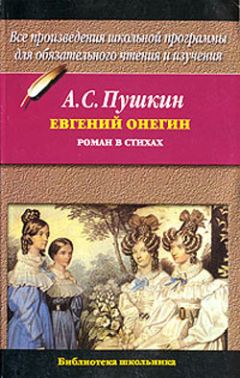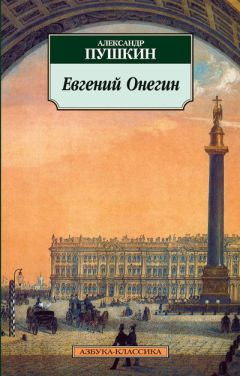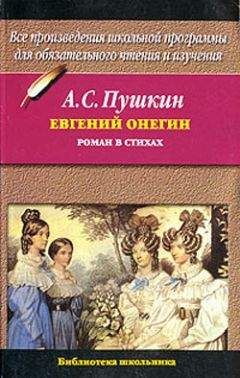Соседи (СИ) - "Drugogomira"
Мама вздохнула – так, словно пыталась вобрать в легкие весь воздух этой комнаты, прежде чем выдохнуть его вместе с одной ей известным «но». И пока длился этот бесконечный вдох, Уля чувствовала, как погибает. Приподнявшись на локтях, не мигая, застыв изнутри, смотрела на рот в ожидании, когда губы разомкнутся. И они разомкнулись.
— Довезли, докуда успели, — рассматривая собственные колени, прошептала мать. — К сожалению, это не Зоина больница, отсюда далеко, но тамошнее руководство она знает и на св…
— Мама! Говори! — не выдерживая пытки неизвестностью, вскричала Ульяна.
Коржик, громких звуков на дух не переносящий, жалобно мяукнув, вдруг подобрался поближе и протиснулся под Улину руку. Вид он имел взъерошенный и побитый, Ульяна рёбрами чувствовала, как трясётся тщедушное тельце. В этой комнате находились двое обреченных на казнь и один инквизитор. Бедный Корж… Тоже всё чувствует.
— Прооперировали, только закончили, — заторопилась мама, по-прежнему пряча взгляд. — «Живой…». — По словам Зои, четыре часа… собирали. — «Господи…». — Но… Она сказала, он поступил в той стадии, когда… Когда… — запнулась. — В общем, Уля… Там сделали, что смогли, но наотрез отказываются от каких-либо прогнозов. Егор в реанимации… — «Живой!». — На ИВЛ{?}[аппарат искусственной вентиляции легких], крайне тяжёлый. Думаю, что подробности тебе пока ни к чему.
По мере того, как мать говорила всё тише и неуверенней, пустела чугунная голова. Радость и безграничное облегчение, пришедшие с осознанием, что он жив, гасились прозвучавшим признанием о невозможности дать хоть какие-то прогнозы. И с пронзительным звоном разбивались о мамины слова о крайне тяжелом состоянии, о её заупокойные, лишённые всякой надежды и веры интонации. Зоя Павловна наверняка рассказала ей гораздо больше, но мать предпочла укрыть факты. Рот беспомощно открывался, хватал воздух и закрывался: не могла Ульяна найти слов, чтобы донести до родительницы, что сейчас в ней творилось. Никакие слова не способны были выразить градус отчаяния и ненависти, до которого раскалилась душа.
— Зоя обещала держать в курсе изменений, — вскинула глаза мама. — Если он стабилизируется и его переведут из реанимации, тебе разрешат посещения. — «Если…» — Родная, я…
«Родная?!»
Осеклась. Наверное, замолчать мать вынудила гримаса «родной»: лицо перекосило разъедающей болью. За одолевающие её чувства Уля не ощущала вины, наоборот, позволяла им разгораться в неукротимое пламя, разливаться шипящей кислотой, охватывать душу, разум и тело. Позволяла им себя сжигать, а матери – всё видеть. «Родная»! Резануло сразу и по ушам, и по внутренностям, вывело Ульяну из состояния коматоза, в который она погрузилась, пытаясь принять и переварить информацию. Подняло внутри сносящий всё на своем пути тайфун. Кисть вырвалась из плена сжимающей её ладошки.
— Прости меня… Я не могла помыслить! Мне казалось, что Егор играется…
«Тебе казалось? Казалось?! Никогда! Никогда не прощу!»
— Уля, я…
Вновь осеклась, наблюдая за тем, как, опершись на локоть, «родная» схватила лежащий рядом с подушкой телефон. Звонил отец.
— Дочь, ну ты где? — раздалось обеспокоенное на том конце. — Девятый час, а тебя всё нет. И не пишешь. У тебя всё в порядке?
Взгляд вновь упёрся в замершую на краешке кровати, изменившуюся в лице при звуках раздавшегося из динамика голоса мать. Мать она ей после всего? По крови мать. Но сердце больше не осязало незримой прочной нити, что связывала её с сердцем находящейся рядом.
— Папа, нет, не в порядке! Я не могу сама приехать, — в носу хлюпало, язык еле ворочался, но Уля заставляла себя говорить. Казалось, что от того, удастся ли ей озвучить просьбу, зависела теперь сама её жизнь. — Пожалуйста, забери меня отсюда! Сейчас!
В трубке послышался шумный вздох.
— Ульяна! Что случилось? — только что более или менее спокойный баритон наполнился тревогой.
Наверное, отца она напугала сильно. Невольно вспомнилось детство. Папа никогда не показывал ей, что способен хоть чего-то бояться. Всегда казался самым неунывающим, самым весёлым и бесстрашным на всем белом свете человеком.
— Просто приезжай, — прошептала Уля в трубку. — Пожалуйста.
— Понял. Минут через сорок буду. Жди.
Раздались гудки, и Ульяна, прикрыв глаза, рухнула на подушку. Всё. Осталось лишь объясниться с огорошенной подслушанным диалогом, побелевшей, как полотно, матерью, что сидела рядом, словно воды в рот набрав. Молчала, а значит, уже понимала. И Уля понимала: знала, что сейчас ранит, но собственная жестокая рана горела нестерпимо. Когда истекаешь кровью сам, думать о нанёсшем удар в спину тяжело. И не думаешь. Всё, к чему ты стремишься – защититься и выжить.
«Весомые» аргументы, которыми мама всю жизнь была вооружена до зубов, теперь потеряли для Ули всякий смысл, в один миг истёршись в сажу подушечками Чьих-то пальцев. Мать больше никогда не вмешается в её жизнь, отныне никогда и ничего не решит за неё. Ульяна лишит её такой возможности на веки вечные.
Их сердечные узы перерезало наточенное лезвие боли сегодняшнего дня.
Рот открылся.
— Я не могу и не хочу тебя больше видеть, мама. Пожалуйста, выйди.
И закрылся.
Всё.
..
Последние полтора месяца собственная жизнь напоминала Ульяне нескончаемую череду обрывочных кадров из фильма ужасов. Вот и сейчас – вновь плыло сознание, и Уля, цепляясь за реальность в ожидании приезда отца, сквозь пелену перед глазами рассматривала накренившийся потолок. По ощущениям, с момента их разговора прошло не больше десяти минут, а значит, впереди еще полчаса пытки. Вечные секунды ада текли теперь под запах валокордина, аккомпанемент еле слышных всхлипываний за стенкой, вибрацию телефона и истерическую трель дверного звонка. Кто-то настырный ломился в дверь квартиры, однако Ульяна и не помышляла о том, чтобы встать и открыть. Голова кружилась, мир вновь пошёл серо-черными помехами, да и зазвучал помехами. Обесточенное тело отказывалось повиноваться сигналам мозга. Пришли наверняка к матери. Вот пусть сама с ними и разбирается.
Всё, что осталось в сердце – выдумываемые на ходу и не прекращающие звучать молитвы. Всё, что осталось от неё – тлеющий фитиль веры в слова баб Нюры: Егор сильный и сможет выстоять даже в такой борьбе. Глядя в потолок, пыталась вымарать из памяти минуту, в которую добилась от него ответа на вопрос о том, какую такую последнюю осень ему нагадали. Всего три буквы. Три буквы, что проявлялись перед глазами вновь и вновь.
«Эту».
Уговаривала себя и убеждала, стирала их ластиком железных доводов, а они вновь и вновь возникали. Эту. Неправда всё! Просто глупая, нелепая шутка, плод чьего-то буйного больного воображения. Предсказания – это же чушь собачья! Как можно увидеть будущее? Никак! Можно, глядя на человека, его характер, образ мышления и жизни, предположение сделать. Но знать возраст, время года… Это же… Нереально! Егор просто неверно понял. Тот «оракул», конечно же, иное подразумевал… Или вообще от балды наплёл, а человек запомнил. И поверил…
Нет! Егор сам дал понять, что считает это всё ерундой! Так и сказал: «Всё фигня, кроме пчёл»! И даже пчёлы – фигня! Так он сказал! Или он имел ввиду, что фаталист?
«Чушь! Чушь! Чушь и ересь! Абсурд!»
Сегодняшний кошмар наяву, вопреки всем брошенным на сопротивление ресурсам, наводил на предположение, от которого кровь стыла в жилах, дыхание перехватывало, а разум порабощал ужас. А если нет?.. Если не бред?..
«Нет! Вздор! Полный!»
— Уля!
«Знакомый голос…»
Кто-то рухнул на кровать, оплёл руками, заставляя замереть, а еще через мгновение Уля ощутила нажим тёплых пальцев, что принялись с усердием стирать с щёк воду. Вода без промедления набегала вновь, веки отчаянно жмурились, разлепить их и разглядеть хоть что-то пока не выходило. Но пахло от вторгшегося в её пространство Юлей, да и сердце знало: это её Новицкая здесь. Вот кто с таким отчаянным упорством ломал дверь. Значит, не выдержала всё-таки мать, открыла.