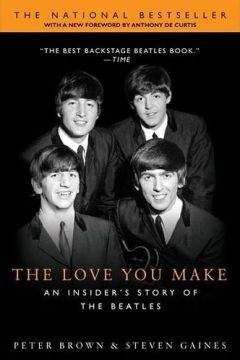Кэрри Браун - И всё равно люби
Он пытался объяснить это Рут. Но вся ее жизнь, ее детство воспитали в ней настороженность, она не могла вот так спокойно что-то впустить в себя. Ей всегда с трудом удавалось расслабиться. И он был благодарен за тот покой, который наконец настиг ее в зрелые годы и проникал теперь во все уголки их жизни: неубранная постель, случайные перекусы из того, что найдется в холодильнике или буфете – хлеб с сыром, маринованные огурцы, ветчина, вино. Он был благодарен за ее ум – господи, да она знает хоть что-нибудь чуть ли не обо всем на свете; без сомнения, она победила бы в «Своей игре»[6], – и так же он был благодарен за живой беспорядок в доме.
Ну какое это имеет значение, что в доме беспорядок? Да, ему самому было неприятно свое беспокойство о том, что подумают люди, и все же он так давил на нее все эти годы. А она так старалась для него, для мальчиков, работала, забывая о себе. Она просто образец долга.
А смешная она у меня. Правда, с этой стороны Рут почти никто не знает. Вечно она меня смешит, да так остра на язычок. И очень красива, хотя сама так никогда не думала. Королевская пышная грудь, большой манящий рот, длиннющие ноги, мягкие глаза, просто таешь в них… моя прекрасная Рут. Он вдруг вспомнил ее на теннисном корте – играла она кошмарно: он высоко подбрасывал ей мячи, а она носилась как полоумная от одного края корта к другому, лицо багровое, точно свекла, огромные ноги топочут в огромных кроссовках, огромные руки бешено размахивают ракеткой, будто она отбивает атаку пчелиного роя. О да, в теннисной юбочке, с веснушчатыми ногами она смотрелась великолепно. Она старалась изо всех сил. И за это он любил ее еще больше, за то, что она так решительно бросалась на корт и играла с ним – «чтобы он поддерживал форму», как она объясняла – хотя у нее напрочь отсутствовал талант к игре.
«О боже! До чего же уж-ж-жасно я играю!» – восклицала она в отчаянии, провожая взглядом мячик, снова летящий в кусты. За ним еще один, столь же неловко пропущенный. Порой ее беготня оказывалась настолько комична, что он складывался пополам от смеха, в бессилии хлопал себя по коленям, и игру приходилось прервать. А она вовсе не собиралась кого-то смешить. Просто она была такой. Однажды даже швырнула в него ракеткой.
«Да уж, моя Рут способна так разозлиться, что полезет в драку. С ней лучше не ссориться».
Обычно в этот день ему не приходилось чего-то говорить или поднимать руку, чтобы попросить тишины в церкви. Рут тогда спросила его, как ему это удается, и он искренне ответил – не знает. Он и в самом деле не считал, что это его заслуга. Просто мальчики знали ритуал, знали, что от них ожидается, и сами замолкали в нужную минуту. А те, кто помладше, оглядывались вокруг, чутко реагируя на действия старших, и постепенно тоже затихали.
И эта тишина, подчинявшая всех себе, казалась Питеру чудом.
Однако сегодня мальчики словно не замечали его. Крутятся, ерзают, обмениваются дружескими тумаками с соседями, шлепают по плечам сидящих впереди, а потом отдергивают руку и напускают на себя невинный вид, будто вовсю изучают рисунок потолка. Питер наблюдал за этим копошением, но почему-то оно не трогало его, он как будто был где-то далеко отсюда. То тут, то там раздавались взрывы смеха. Он видел, как учителя скорей торопятся обернуться на шум и грозно хмурят брови на нечестивцев.
Питер стоял и ждал, пока суматоха уляжется, разговоры смолкнут. Он не знал, что он может сделать еще. В церковном полумраке ему не было видно Рут. Может, она пошла домой, готовиться к приему гостей? Как жаль, что его оторвали от нее сегодня. Как хочется взять ее за руку, пройти с ней вместе через церковь. Как же не хватает ее сейчас. Он все чаще, порой в совершенно неожиданные моменты чувствовал, как остро ему не хватает ее рядом. Как и любой мужчина, он восхищался любой красивой женщиной и за свою жизнь, конечно, успел украдкой наглядеться на девушек с обложки. Но единственной женщиной, которую он по-настоящему хотел, была Рут.
Он почувствовал это в первое же мгновение, когда Рут появилась у них в доме – им было по двенадцать лет, и его отец, единственный доктор в городишке, привел ее к ним, когда она осталась одна.
На том конце прохода между рядами ровно светился голубой квадрат сумерек.
Питер понимал, что его необычайно высокий рост, заметная, крупная голова уже помогают ему овладеть ситуацией; если просто встать вот так в классе, мальчики замолчат, хотя, сказать по правде, малыши редко его боялись. На спортивных соревнованиях, когда он с края поля наблюдал за игрой, на нем всегда мартышками висела парочка ребятишек и еще парочка неотступно следовала за ним вприпрыжку, весело перебирая ногами в зеленых от травы кроссовках.
Ему было жаль, что у них нет своих детей – но, пожалуй, не так сильно жаль, как это представляла себе Рут. Куда больше ему было жаль Рут. Вот уж к ней дети так и тянутся, просто липнут. Ох, как трудно бывает выдержать ее взгляд – взгляд с задушенной в нем тоской.
И он старался окружить ее детьми, пусть не родными. Мальчики, целые десятилетия мальчиков.
Ему вполне их хватало, а вот ей вряд ли. И все же она не жаловалась. В действительности они предпочитали не говорить об этом.
Но, возможно, и это было ошибкой.
Вообще-то он вполне понимал, что может воспользоваться своим ростом. Он же видел, как это работает в классе. Его статная спортивная фигура… конечно, она помогала ему быть хорошим учителем. Когда он еще учился в аспирантуре в Йеле, он однажды оставил Рут одну на три месяца, а сам отправился вести семинары для сельских учителей. Его порекомендовал профессор истории, и он оказался самым молодым членом команды, его посылали в самые глухие уголки, крошечные городишки в Миннесоте и Висконсине около канадской границы – совсем не факт, что кое-кто постарше и пощуплее одолел бы эти расстояния и разъезды. В эти-то холодные короткие дни, когда вечер спускался так рано, он, втиснувшись за последнюю парту – колени все равно возвышались сбоку в проходе, в единственном классе, который и был, собственно, школой, – он вдруг открыл в себе – помимо безусловной любви к Богу – учительский инстинкт и собственный стиль, живой, ничему не покорный. В классных комнатах Дерри, в которых Питер, будучи директором, оказывался теперь не так уж часто, он вел себя так, словно каждый ответ ученика – это настоящее открытие, и неважно, что на самом деле он нагонял тоску или ученик еле слышно что-то там мямлил. Питер хвалил ребенка и так любил наблюдать, как глаза его загораются счастьем.
Он не любил формальности. Просил, чтобы мальчики называли его Питер. Настаивал на этом. Точнее, все в Дерри – от посудомоек и водителей гудящих газонокосилок, которые стригли спортивные поля, до преподавателей шекспировской литературы, физики или греческого – называли его Питер. Он терпеть не мог церемонии.