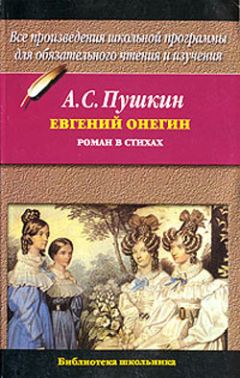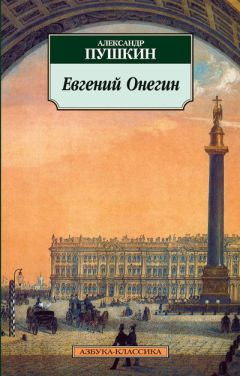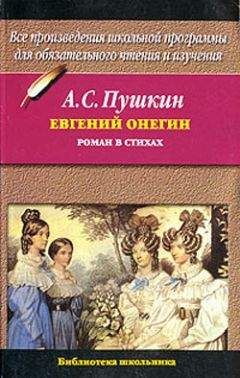Соседи (СИ) - "Drugogomira"
За окном закручиваются порывами ветра и летят, опускаясь в огромные лужи, листья. Плывут в мутной воде, сгнивают на сырой земле. Очередной цикл завершен, свой-чужой город медленно погружается в осенне-зимний мрак, покорно тускнеет, темнеет и уходит в спячку до новой весны, луча солнца и глотка надежды. Картина угасания природы не вызывает в душе никакого отклика – душа уже давным-давно облетела: там, где буйно цвела жизнь, тычутся в унылое грузное небо голые ветки. Собственная вселенная рассеялась пылевым облаком, оставив после себя пустоту. Пустота пропитала собой всё, просочилась в каждую щель и клеточку, наполнила лёгкие, мозг и сердце. Пустота стала им, а он ей. И душе теперь всё равно. Не происходящее внутри заставляет воспринимать происходящее за стеклом равнодушно.
Холодно.
Умер. В этот раз абсолютно точно и до конца. Чувства, сердце и мозг последовательно отключились, кровь остыла, мышцы окоченели, и что-то, отлетев в высоту, шмякнулось оземь с ускорения. Самому себе напоминает подключенный к аппарату искусственного жизнеобеспечения «овощ»: ни туда и ни сюда. Если бы дело происходило в каком-нибудь фильме, вокруг него бы уже собрался консилиум врачей и, может, даже безутешные родственники нашлись. Они бы долго решали, отключать или пусть ещё помучается. А он бы, быть может, даже не понимал, что происходит.
Здесь всё решает он один.
Тишина вокруг звенит, рассыпается. Еле слышно шумит холодильник, и, кажется, это самый громкий звук в помещении, которое теперь надобно называть домом. Иногда к шуму пластмассового белого ящика добавляется шелест бумажных страниц или перелив падающего в стакан пойла. Он действует механически, на автомате, пытаясь спастись тем, что помогало раньше. Но текст не оседает, а алкоголь не выжигает. Ещё немного, и вновь будет готов пустить сюда половину города.
Нет, не будет, нет тут никакого смысла. Смысла нет вообще больше ни в чем, потерял в одночасье. Или ослеп. Но он его не видит. Презрительное молчание незнамо сколько хранит душа. Наверное, и впрямь покинула тело. Пропали без вести мотивы что-то делать, о чём-то думать и смотреть вперед, исчезли цели, он не выжмет в себе сил их искать, ни искры не высечет. Не из чего. Редкие эмоции проходят по касательной и насквозь, не задерживаясь внутри. Пытается за них зацепиться, заставить себя чувствовать хоть что-нибудь. Что-нибудь! Не получается. Ощущение такое, будто застыл в состоянии, в котором нашёл себя в момент, когда тётя Надя поднялась из-за стола, и так и не включился. Когда-то нащупать пульс жизни помогали случайные связи. Сейчас же одни мысли в ту сторону вызывают отвращение. Не желает никого касаться и не даст никому коснуться себя. Если пусто, то пусть сразу везде. Если расстояния с людьми, то все километровые. Ничего личного, всё в интересах всех.
В этом сосуде больше ничего нет: содержание отсутствует, он прозрачен и не восприимчив. Он не существует, пусть тело еще здесь: палочки и колбочки в сетчатке глаза поглощают свет и отправляют сообщения в черепную коробку, создавая у мозга обманчивое ощущение присутствия хозяина в этой жизни. Хозяин видит изображения: ступни и ноги, торс, кисти рук и предплечья. Рожу не видит – не хватает духа в зеркало взглянуть. Чувствует: на роже посмертная маска. Тело, в общем, здесь, а остальное хуй знает где искать.
Хуй знает, где себя теперь искать. И нужно ли вообще?
Зачем?
Хуй знает.
Нет смыслов, равно как и понимания, что он тут забыл. Точнее, понимание есть, но… Смысла нету. Он отсёк себя от смысла, собственными руками перерезав пуповину. Состояние странное: мысли покончить с мучениями по-быстрому изредка мерцают в чугунной голове. Однако же нечто в нём с завидным упрямством им сопротивляется. Выпилиться охота и вместе с тем выжить охота – в очередной раз взять и выжить назло. Парадокс заключается вот в чём: для борьбы необходима внутренняя злость. Но и её он больше в себе не чувствует. Тогда откуда?
Откуда раз от раза берется упрямое желание продолжать дышать, чёрт знает. Откуда тихая упёртость, своенравие и строптивость? Кто кого однажды одолеет? Мир – его, или он – мир? Против кого или за что ведется их с миром бесконечный поединок? Кому и что он пытается доказать, сызмальства цепляясь за жизнь всеми конечностями? Кому показывает, что голыми руками его не взять? Что никак вообще не взять?
Нет ответов. Он видел, как, принимая навязанные правила, сдавались системе дети. Понимал, что не от болезней и зависимостей они умирали маленькими, юными и взрослыми, а потому, что не справлялись с осознанием своей никчёмности и ненужности. Тоска, ощущение собственной неполноценности, недоделанности, увечности, если не изуродованности, их сжирали, обнуляя силы на борьбу, и сейчас выжигают до тла его.
Но туда? Нет. Туда не сам. Если уж его и вынесут ножками вперед, то не потому, что он сам этого захотел. Пусть там, сверху, его как следует захотят, вот тогда он согласен. Туда – только чьей-то волей.
До стиснутых челюстей и скрежещущей эмали, искр перед глазами, тумана в голове – пусть кривой, косой, не такой, эгоцентрик, не умеет, не думает, портит, марает, гробит, во всём виноват, – он не сдастся.
Пусть сорвался с рельс несущийся поезд и на месте его теперь лишь груда искорёженного металла. Пусть в одну секунду по пизде пошло абсолютно всё, он не сдастся.
Пока она тут.
Её нет, но Она есть. Незримо Она рядом, где бы ни прятался от Неё, чем бы себя не глушил. Она продолжает жить в остановившемся сердце и не даёт мозгу окоченеть. Она до сих пор в мыслях, и эти мысли – единственное, что способно, пусть на ничтожные мгновения, но поднять внутри эмоции. Бледное подобие прежних, тень от них. Но они сообщают ему, что песенка пока не спета: он до сих пор торчит где-то между тем миром и этим. Еле тёплый. Ещё тёплый.
Может, в этом все дело. Она – тут. Здесь его держит Она.
Подвеска Её так и болтается на шее. Четырежды пробовал снять и четырежды ощущал себя обобранным до нитки, лишенным остатков сил и потерявшим волю к сопротивлению. Четырежды не смог избавиться от того единственного, что у него от Неё осталось. Маленькая деревянная птица словно оберегала от погребения под покровом вечной кромешной тьмы.
Он снова Её предал. Опять. Потому что из зеркала на него посмотрит могильщик. Потому что «на осине не растут апельсины». Потому что если ещё можно исправить хоть что-то, нужно исправить. Ей должно достаться лучшее, что за пазухой прячет жизнь. А с ним давно всё ясно.
Её нужно от себя уберечь. Обрубить канаты, пока они не оплели её намертво и не задушили. До сих пор не может понять, чем думал и почему не смог себя удержать. Обязан был! Должен был включить голову, но в состоянии умопомешательства мозги вышибло напрочь. Вместе с памятью. И всё же… Всё же факты – вещь упрямая: все его связи порваны, не было иначе, не способен он. Только боль причинять. Даже сейчас, пытаясь в кои-то веки поступить во благо и предотвратить куда более страшные разрушения, принёс боль.
От себя тошно. Вот это, пожалуй, он по-прежнему чувствует хорошо. Тошно. Потому что вновь поступил с Ней как мудак. Потому что не дождался. Не смог. Знал: любое Её встречное слово лишит остатков сил на рывок прочь. Любое. Она умеет говорить так, что способность к сопротивлению испаряется вместе с духом.
Это чужеродное пространство назвать домом не поворачивается язык, здесь всё кажется мёртвым. Переезд не особо помнит, да и вообще, стереть бы из памяти это лето начисто. Но пока свежо, и обрывочные картинки сами продолжают лезть перед глазами. Сутки или двое спустя после разговора с соседкой, не приходя в сознание, открыл сохранённые на ноутбуке вкладки и набрал арендодателей. Первая свободная квартира стала его выбором. Ключи от собственной перекочевали к огорошенному прытью Мише. Сервис грузовых перевозок пригнал к подъезду маленький портер, в углу кузова которого сиротливо приютились пара коробок необходимых вещей, отцовский винил и гитары. Остальное запер в родительской комнате. Кота на прощание нагладил на вечность вперед. Корж те дни не жрал, орал, словно режут его, и то и дело пытался обустроиться в набитой чем попало дорожной сумке. Вот это помнит. Еще и кота украсть не хватило духа. Пытался оставить на рабочем столе подвеску и запиской, информирующей о хозяйке. Сняв, почувствовал, будто его пилят ржавой пилой, и передумал. Оставил. На память.