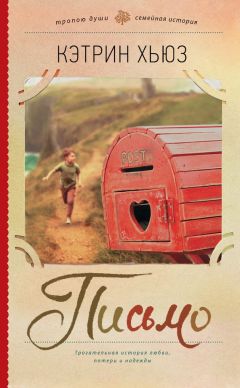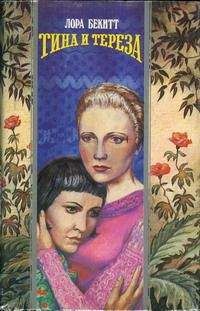Татьяна Корсакова - Ты, я и Париж
Полдня Тина просто бродила по городу. Слез не было, они выгорели вместе с ее душой в тот самый момент, когда тетенька-гинеколог с неискренней улыбкой сказала: «Твой дед очень опасается за твое физическое и моральное здоровье. Давай-ка, милая, раздевайся, посмотрим, как далеко ты зашла». Еще утром, всего каких-то пару часов назад, Тина была чистой влюбленной девочкой, но после этих слов, прозвучавших как приговор, она вдруг окончательно поняла, как оправдать надежды деда. Все эти семнадцать лет он ждал, когда же она перестанет быть хорошей девочкой, когда оступится и станет наконец такой, какой он хочет ее видеть: распутной, грязной, неуправляемой. Она оступилась, и он теперь сможет ненавидеть ее с чистой совестью, без всяких оговорок и «если».
К вечеру ноги сами принесли ее в старую котельную. Мишка был на месте, возился с разобранным радиоприемником.
— Привет, — Тина села на продавленный тюфяк.
— Что ты тут делаешь, Паутинка? — Мишкино удивление было понятно, раньше Тина наотрез отказывалась приходить в это не слишком симпатичное место.
— Вчера ты просил, чтобы я подумала. — Она сняла свитер, зябко поежилась. — Все, я подумала…
Тина прожила в старой котельной три дня. Мишка, счастливый и напуганный одновременно, принес ей теплых вещей и еды. Из-за нее он прогулял училище и даже послал к черту своих братанов, посмевших возмутиться, что в их норе обосновалась баба. Мишка заботился о ней и говорил всякие глупости о том, что они обязательно поженятся, потому что теперь, когда Тинка-паутинка «пострадала из-за любви к нему», он за нее в ответе и не даст ее в обиду никому, особенно этому старому козлу, ее деду.
Утром четвертого дня Мишка ушел за едой и не вернулся, а вечером в ее убежище явился дед. За те дни, что они не виделись, он постарел, из крепкого, поджарого мужчины вдруг превратился в дряхлого старика.
— Пойдем домой. — Он присел на деревянный ящик, служивший в котельной табуреткой.
— У меня нет дома. — Тина покачала головой.
— У тебя есть дом, пошли.
— А где Мишка?
На лице деда промелькнула и тут же исчезла гримаса отвращения.
— Этот… — он запнулся, — твой приятель в милиции, дает показания.
— Показания?! — Тина не верила своим ушам.
— Клементина, ты несовершеннолетняя. Он знал это и все равно…
— Что — все равно?! — Она резко встала, отошла к противоположной стене. — Переспал со мной?
— Да, — дед больше на нее не смотрел, сцепил узловатые пальцы в замок, рассматривал трещинки на штукатурке, — и ты должна меня понять…
— А я не желаю тебя понимать! Я хочу, чтобы ты забрал свое заявление и оставил нас в покое!
Он долго молчал, обдумывая ее слова, а потом сказал:
— Хорошо, я заберу заявление, но ты вернешься домой и перестанешь общаться с этим… со своим приятелем. Выбирай.
Теперь долго молчала Тина. Она знала своего деда и верила, что он, не задумываясь, осуществит свою угрозу. И тогда Мишку посадят, не посмотрят, что он тоже еще несовершеннолетний, не поверят ни единому ее слову. Она не хотела, чтобы из-за нее Мишка попал в колонию. Она хотела, чтобы он закончил учебу и получил на восемнадцатилетие заветный мотоцикл, и жил счастливо и без сожалений. Все это возможно, если она примет условия деда…
Тина решилась:
— Хорошо, я пойду с тобой.
— Домой. — Ей показалось, что голос деда дрогнул.
— Я пойду с тобой, куда скажешь, после того как ты заберешь заявление.
Они оба сдержали свои обещания. И неизвестно, кому было хуже: деду, переступившему через собственные принципы, или Тине, отрекшейся от своей самой первой любви.
Мишка не хотел ее понимать. Его, дурака, не страшила ни милиция, ни тюрьма. Он считал себя неуязвимым, но Тина знала: если она даст слабину, дед не простит и жестоко накажет. Поэтому ей пришлось быть сильной и сказать, глядя прямо в растерянные Мишкины глаза, что она его больше не любит. И не просто сказать, а сделать так, чтобы он поверил. Пришлось улыбаться мерзкой улыбкой и назвать его слабаком и тряпкой.
Мишка поверил, посмотрел разочарованно и брезгливо, процедил сквозь зубы:
— Ты еще пожалеешь.
Тине вдруг показалось, что на белесых ресницах дрогнула слезинка. Нет, только показалось. Мишка ушел, а она вернулась в то место, которое когда-то считала своим домом, к старику с затравленным и одновременно решительным взглядом, которого когда-то считала своим дедом…
Мишка ушел, а дворовая шпана, его братаны, решили отомстить за его поруганную честь. Тину подкараулили поздно вечером в подворотне и избили до полусмерти. Забили бы и до смерти, если бы их не спугнула баба Люба. Потерявшую сознание девушку отвезли в больницу, а на следующее утро у деда случился инфаркт…
Она выздоравливала быстрее. Несмотря на тяжелое сотрясение мозга, ушиб почки и переломы ребер, Тина встала на ноги раньше деда. Его коллеги говорили, что он сильно сдал за последнее время, но Тина, всматриваясь в погасшие дедовы глаза, понимала — он не сдал, он сдался. Всю жизнь вел никому не нужную, непонятную борьбу с самим собой, черпал силы в этой бессмысленной битве и вот, когда бой закончился, потерялся. Впервые в жизни Тине стало его жалко. Впервые в жизни она посмотрела на деда глазами повзрослевшего человека и поняла его. Простить не смогла, даже и не пыталась, но и понимание дорогого стоило.
Может быть — даже скорее всего — дед не любил ее, но он о ней заботился: не оставил в детдоме, кормил, одевал, учил. И изо дня в день, глядя на внучку, видел в ней убийцу своей дочери. Страшно. Маленький персональный ад. Сам себе судья, сам себе палач…
Дед умер на следующий день после выписки из больницы. Он умер, а Тина вдруг поняла, что теперь осталась совсем одна.
Она не плакала, когда увидела стеклянный, неживой дедов взгляд. Не плакала, когда сбежались соседи, когда тело забрали в морг, когда обычно резкая и нетерпимая Эмма Савельевна отпаивала ее обжигающе горячим чаем и называла «бедным ребенком». Тина заплакала только однажды, в канун похорон, когда увидела, что на деде надет тот самый связанный ею несколько лет назад свитер.
— Чудак человек, — баба Люба, трезвая и от этого неожиданно торжественная, погладила деда по пергаментной щеке. — Лето на улице, а он велел, чтобы его после смерти обязательно в этот пуловер обрядили. Даже слово с меня взял, — она всхлипнула, а Тина разревелась в голос.
Похороны она не запомнила: много людей, много слез, много слов, гулкий стук падающей на крышку гроба сырой земли, поминки для соседей и самых близких, ночь без сна, тихий скрип половиц в осиротевшей квартире, окно, распахнувшееся настежь невесть откуда взявшимся сквозняком. Тина не боялась. После того как она увидела свой свитер, страх и боль ушли, оставив вместо себя тихую печаль и горечь сожалений. Дед тоже сожалел, она точно это знала: по тоскливому поскрипыванию половиц, по беспокойно мечущимся на стене теням. Он не хотел уходить, не хотел оставлять ее одну.