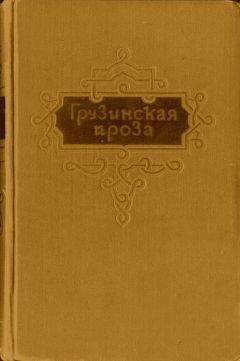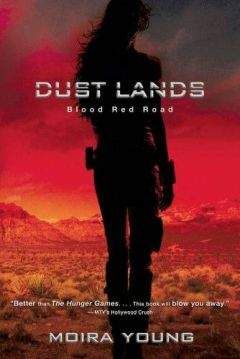Джулия Грегсон - Жасминовые ночи
Под шляпкой он разглядел прядь блестящих черных волос. Еще ему сразу понравились ее полные губы и большие карие глаза.
Она остановилась возле пианино и тележки с полками, где хранились ножницы и перевязочный материал. То ли ангел, то ли чертенок. С ее лица не сходила радостная улыбка, словно наконец-то сбылась ее давняя мечта. «Что ж, высокий класс, держит себя профессионально», – подумал Дом, пытаясь сохранить здоровый цинизм.
С сильным акцентом – валлийским, итальянским? – она сообщила, что ее зовут Саба Таркан, что она приехала вместо певицы Дженис Софи и надеется не разочаровать слушателей. При этом она посмотрела в сторону Дома – или ему показалось? – словно подтверждая свои слова.
Толстый человечек в хаки, ее аккомпаниатор, тяжело сел за пианино и заиграл. Она слушала его, чуть покачиваясь, потом на ее лицо снизошел покой, и она запела про лиловые ночи, мерцающие звезды и про девушку, шепчущую имя возлюбленного.
Дом изо всех сил старался не подпускать ее к себе, отгородиться, но песня все равно плыла к нему из темноты. Голос девушки звучал так задушевно и печально, а сам он так давно не испытывал влечения к женщинам, что его захлестнула волна облегчения. «Сквозь туман памяти ты возвращаешься ко мне»[5]. Ведь теперь он столько всего скрывал: свой страх остаться с обезображенным лицом, свой стыд из-за того, что его друзья погибли, а он жив. Потом его разобрал смех, ведь «Темно-фиолетовые сумерки»[6], пожалуй, не самый подходящий выбор для их палаты. Многие парни покраснели от смущения: генциановым фиолетовым антисептиком врачи мазали ожоговых пациентов, после того как те принимали ванну с дубильной кислотой.
На середине песни певица смутилась, словно осознав свою ошибку, но допела до конца и потом не стала извиняться. Дом мысленно одобрил ее – меньше всего им требовались сочувствие и особые песни, щадящие их чувства.
Когда она замолкла, он заметил бисеринки пота на ее верхней губе и влажные пятна под мышками. В их палате было всегда очень жарко.
Потом она спела «Мне хочется любить»[7]. Кертис, паршивец, крикнул ей:
– Глянь в мою сторону, детка! Не пожалеешь!
Дом нахмурился и мысленно повторил Саба Таркан, чтобы запомнить ее имя.
– Еще две песни – и хватит. Пора спать, – сказала сестра милосердия Моррисон, рослая толстуха, и постучала ногтем по циферблату своих наручных часов.
Дом с облегчением перевел дух – слишком много впечатлений. Все равно что ты голодал целый год, а потом съел обед из десяти блюд.
Но Саба Таркан не послушала сиделку, сняла шляпку и положила ее на пианино, словно давая понять: «Я останусь, пока не закончу свою программу». Дом опять одобрил ее. А она откинула прядь волос с разгоряченной щеки, что-то быстро сказала пианисту и унесла Дома на край самообладания, когда запела «Они мне не верили»[8]. Аннабел любила эту песню и, когда они гуляли, держась за руки, тихо напевала ее. В те дни он не сомневался, что у него есть все необходимое для счастья: упоительные полеты в небе, Кембридж, любимая девушка… Да и другие девушки тоже… Когда по его фиолетовой щеке поползли слезы, он отвернулся, злой и сердитый.
Высокая, белокожая Аннабел, эфирное создание с длинными светлыми волосами и милой улыбкой, знала себе цену. У нее были и соответствующие родители: отец – судья в Высшем суде, мать – преподаватель в университете. Поначалу Аннабел, как подобает христианке, исправно навещала его в душной, вонючей палате, с влажным от испарины лбом читала ему вслух умные книги, нервно косясь на других ожоговых раненых.
– Я больше так не могу. Оказывается, я недостаточно сильная, – сказала она через две недели и жалобно всхлипнула. – Да и тебя я не узнаю. Это не ты. И мне тут страшно. – Она посмотрела на раненого парня с соседней койки. Половина его лица и шеи, до самой груди, напоминали грубую поверхность слоновьего хобота.
– Прости. Мне ужасно жалко, – нежно прошептала она, уходя, и ее круглые голубые глаза наполнились слезами. – Давай останемся друзьями.
Она была не первой девушкой, опрометью сбежавшей из этой страшной ожоговой палаты, и не последней. «Поразительно, как легко может выжать слезу дешевая музыка». Что-то в этом роде, циничное и шутливое, он мог сказать когда-то, оправдывая свои эмоции. Недаром в Кембридже пользовалась популярностью его имитация скетчей Ноэла Кауарда[9]. Но сейчас дело было не только в бросившей его возлюбленной. Он потерял все, даже всякие дурацкие мелочи, – пожалуй, это и было больнее всего.
Сверстники из его круга целыми днями валялись на диване с сигаретой и дешевым шерри, элегантно скучали и дико восторгались Чарли Паркером[10], или Эзрой Паундом[11], или Элиотом[12] – в зависимости от того, что их забавляло. Какими наивными юнцами казались они теперь, спустя какой-то год… Первые головокружительные дни вдали от дома, не иссякавший поток хорошеньких студенток в их комнатах в кампусе – только выбирай… Он пытался быть великодушным к Аннабел и заявил после ее слезного признания, что он все прекрасно понимает, ничуть не осуждает ее. Говоря по правде, он всегда испытывал ощущение вины перед ней, потому что не любил ее так же сильно, как она его, и, как говорится, она была для него не «та самая, единственная». Вокруг было много других, не менее привлекательных девчонок.
Напротив него в отделении жил Сметрен; его комната была знаменита царившим в ней хаосом. Он погиб два месяца назад. Клэнси, его лучший друг, тоже фанат авиации и умнейший парень, был сбит над Францией за месяц до своего дня рождения. Ну и, конечно, Джеко… За год все переменилось. Тот парень, каким Дом был прежде, никогда не смог бы даже представить себе ничего подобного – что он будет лежать на койке в пижаме в 8:30 вечера и отчаянно сдерживать слезы, чтобы не опозориться перед красивой девчонкой. И ведь без какого-то особенного повода, только из-за глупой песенки. Дом больно прикусил губу: из-за пары простеньких аккордов, да еще умело подобранных слов. Из-за нехитрой песенки.
Звяканье склянок, перестук колес тележки. Сестры развезли лекарства, которые нужно принять на ночь. Они погасили верхний свет и разожгли бойлер в середине палаты.
Пианист уже убрал ноты, а на голове девушки снова была смешная шляпка с вуалью.
– Последнюю, – сказала певица и запела без музыки, сильным и чистым голосом, серьезно и старательно, «Туман застилает твои глаза»[13].
Потом она обошла раненых, желая всем доброй ночи.
Пожелала доброй ночи Уильямсу, у которого обе ноги были на растяжке, и слепому бедняге Билли в конце палаты, и Фартингейлу, который пойдет завтра в театр, а потом ему опять зашьют веки. Казалось, ее вовсе не пугали их раны. Но, может, она просто была специально натренирована?