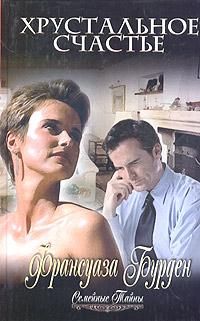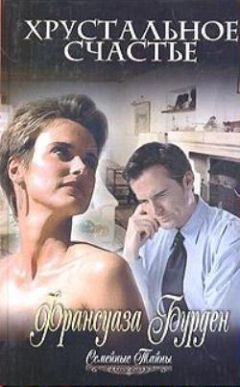Адаптация - Дюпон-Моно Клара
Они часто беседовали о старшем брате и о сестре. Те незримо присутствовали в доме. Об их жизни можно было судить по последним новостям, и с появлением мобильных телефонов общаться стало проще. Старший устроился на хорошую работу. Он носил костюм, ездил на автобусе, жил в квартире. Но в его жизни не было никого. Он существовал без любви, обходился парой друзей. Родители говорили о нем, будто прикасались к хрустальной вазе, нежно, бережно. Младшая все еще находилась в Португалии, но бросила изучать португальскую литературу. Ей надоело; по словам отца, она никогда не любила учиться. Она подумывает о том, чтобы открыть частные курсы французского языка. Много гуляет. Ее квартира выходит на узкую, уходящую вниз улочку, где расположен музыкальный магазин, и с его хозяином они теперь вместе. Она стала реже звонить домой. И казалась очень влюбленной. «Она возвращается к жизни», — улыбалась мать, а сын в этот момент говорил себе, что для того, чтобы переродиться, нужно было считать, что умираешь, и мельком подумал о безмерности того, через что прошла семья до его появления на свет.
Вопросов было очень много, хотя он старался делать вид, что все в порядке. Когда вы узнали; что мой брат делал на протяжении дня; пахли он чем-нибудь; грустил ли; как он питался; мог ли он видеть; мог ли он ходить; могли он думать; было ли ему больно; было ли больно вам? Про себя он называл малыша «почти я». Он чувствовал себя двойником малыша, похожим на малыша. На того, чьим языком была только способность чувствовать, на того, кто никогда никому не причинил бы вреда, на того, кто был погружен в себя. Как маленькая свернувшаяся клубочком многоножка. Он скучал по малышу; удивительно, думал он, ведь я его никогда не знал. Он бы так хотел увидеть малыша, почувствовать его запах, прикоснуться к нему хотя бы раз. Тогда он сровнялся бы с другими членами семьи и удовлетворил бы глубокий, искренний интерес, который он испытывал к малышу. Его не смущал тот факт, что малыш был особенным. Последний ребенок в семье любил слабость. Он слабым не был, поэтому не боялся, что его будут осуждать. Почему он боялся осуждения, он не знал, разве что думал, что стыд, который испытывали его брат и сестра, а возможно, и родители в тот момент, когда взгляды окружающих падали на переноску с малышом, в тот момент, когда другие специально демонстрировали свою «нормальность», этот стыд был настолько глубоким и вызывал такое чувство вины (позорный стыд, говорил он себе), что передавался генетически. Он хотел бы обнять малыша, чтобы защитить его. Как можно скучать по тому, кто умер до тебя, задавался он вопросом, и от этого вопроса у него путались мысли.
В родительской спальне на стене висела фотография, рядом с кроватью, над прикроватной лампой со стороны матери. На снимке был изображен малыш, лежащий на больших подушках в тени во дворе. Фотография была сделана снизу, с земли, вероятно, его старшим братом. Толщина большой подушки, на которой покоились тощие коленки, позволяла догадаться, что ножки малыша не держались вместе. Ручки тоже были раскинуты, но кулачки сжаты. Какие тонкие запястья, как сухие заснеженные веточки, подумал мальчик. Малыша сфотографировали в профиль: бледная округлая щечка, длинные темные ресницы. Густые каштановые волосы. В нижнем углу изображение было размытым, но он узнал руку сестры. Это был воскресный день: горы расправили плечи, и их толстые шеи тянулись к синему небу. Все казалось спокойным и в то же время каким-то неправильным: то ли из-за ножек малыша, то ли из-за неестественно откинутой назад головы, то ли из-за его судьбы. Когда вечером сын приходил обнять мать, он быстро, почти со страхом глядел на эту фотографию. Он хотел бы задержаться у нее подольше. Но не осмеливался. Мать несколько раз говорила, что он может спрашивать, о чем хочет. Но вопросов было столько, что он не знал, какой из них задать. По правде говоря, он боялся растревожить мать. Он не хотел, чтобы она снова грустно улыбнулась, как тогда, когда спросила: «Видишь апельсин?» Он не хотел рисковать: а если бы он не умер, я бы все равно родился? Он просто обнял маму. Говорил про себя, что любит, что всегда будет рядом, закрывал глаза и прижимал ее к сердцу.
Учился он отлично. Однако школьные задания его не очень интересовали, он считал их серыми, банальными, даже глуповатыми. Кроме истории. История была единственным предметом, который он действительно ценил. Он легко запоминал все даты, погружался в какой-нибудь исторический период, в котором, казалось, улавливал нюансы, проблемы, настроения. Он предпочитал Средневековье, и когда узнал, что люди того времени давали имена колоколам и мечам, очень обрадовался, потому что тоже давал имена камням. Так работает детское воображение: оно наделяет нас, камни, личностью, о которой мы никогда не мечтали, и мы наслаждаемся звучанием наших имен: Сильный, Светлый, Радостный; наша стена превращается в шкальный альбом. На протяжении всей начальной школы он с одинаковым удовольствием изучал эпоху викингов и последствия Второй мировой войны. История всегда вызывала у него острое ощущение счастья, ему казалось, что он попал в неизвестную страну. Ему предстояло изучить иной язык, иной способ питания, иной способ мышления, иное отношение к пространству, к чувствам. История была путешествием на неизвестный континент, и все же она прекрасно отражала его собственные представления о реальности. Он чувствовал себя звеном в длинной цепи, как будто занял свое место в огромном хороводе, что сформировал мир до его рождения. Ему нравилась эта мысль — что он находится между тысячами прожитых и будущих жизней. Ибо тогда он уже не был последним. Иногда он касался нас, камней, кончиками пальцев, аккуратно, как будто прикасался к останкам своих предков — и это было правдой, камни — останки прошлого. Об этом он не рассказывал никому.
Он чувствовал, что какая-то граница отделяет его от ровесников. Он очень легко пробивал человеческую толщу. Замечал чей-то взгляд, меланхолию, ожидание, чувство неполноценности, тайную любовь, страх. Он вынюхивал других, как животное. Но старался оставаться человеком, чтобы избежать отвержения, потому что, как он догадывался, высокочувствительные люди — легкая добыча. Он сразу заметил паренька своего возраста, державшегося особняком. Паренек, вероятно, был не из их долины. А может, только что переехал. В любом случае его никто не знал. Он наблюдал за тем, как другие смотрят на него, оценивают, и понимал, как опасно быть вне общества. Новенький уже несся за своим шарфом, который свернули и передавали по кругу, как воздушный шарик. Он подпрыгивал, тянул руки, но шарф подкинули слишком высоко. И тот оказался в руках мальчика. Он хотел помочь новенькому — тот уже бежал к нему, — но поступил наоборот, подчинился норме поведения. Он со всей силы бросил шарф ребятам, новенький круто развернулся и не удержался на ногах. Он не сразу поднялся, плакал от отчаяния, и всех во дворе охватило злобное ликование.
Эта сцена преследовала его. Ему приснился кошмар; посреди ночи он проснулся, спустился по лестнице и сел рядом с отцом, который листал журнал, посвященный разным хозяйственным инструментам (как обычно). Он возненавидел это судилище и возненавидел себя. Если бы он был Ричардом Львиное Сердце, подумал он, то никогда бы так не поступил. Он отчетливо слышал плач новенького, как будто тот стоял у него за спиной в гостиной. На следующий день он естественным образом снова стал самим собой. Постоял у класса и отдал шарф новенькому на глазах у всех учеников. И услышал, как прозвучало слово «предатель», а новенький не взял шарф, и тот тяжело упал на пол. «Я не завоевал дружбу новенького и потерял расположение остальных», — подумал он и в глубине души совсем не удивился. Он чувствовал себя не таким, как все, и не таким, как этот «другой» мальчик. Пришло время признать это. Нужно было вести себя осторожно.