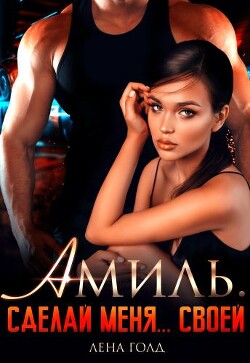Темное наследие (ЛП) - Лоррейн Трейси
Было бы легко подумать, что кто-то из них может быть мягок с нами. Но я знаю, что на самом деле это просто способ продлить их время с нами. Они пока не хотят, чтобы мы умирали, и заплесневелый хлеб и чуть теплая вода помогут в этом.
Его глаза встречаются с моими, и я вижу боль, которую чувствую каждым дюймом своего тела, когда смотрю на него в ответ.
Все мои страхи по поводу того, что он неискренен, что ему наплевать на Калли или что он солгал мне в тот день, когда рисковал своей жизнью, чтобы сказать мне, что она в беде, были стерты.
Потому что с того момента, как я узнал, кем был мой сокамерник, я не видел ничего, кроме искренней преданности ей — нам, — что в лучшем случае является полной чушью, но я не совсем в том состоянии, когда хочу погружаться в это слишком глубоко.
Но одно я знаю наверняка: Антонио Санторо — верный, но тупой ублюдок.
Он не должен был оказаться здесь. Он мог уйти от разрушения той ночью, когда это сделали остальные Мариано. Но это тупое дерьмо решило, что ему нужно выполнить обещание, которое он, по-видимому, дал Калли, когда она убегала, и попытался вытащить меня за несколько секунд до того, как на нас обоих обрушилась крыша.
Возможно, он и добился успеха, но мы наткнулись прямиком на его дядю. И этот ублюдок был недоволен, хотя он также не мог скрыть удовлетворения от того, что в его руках оказался Чирилло, который сверкал в его глазах.
Последнее, что я помню, была ослепляющая боль, взорвавшаяся сбоку от моей головы, прежде чем мир вокруг меня погрузился во тьму.
— Ты говоришь так, как будто это причиняет боль, — бормочу я хриплым голосом, боль разрывает горло от недостатка воды.
— Пошел ты, чувак, — ворчит он в ответ, но не сдается. Он продолжает наказывать себя, пока ему наконец не удается сесть прямо на холодный бетонный пол.
Он делает долгий медленный вдох, его глаза плотно закрыты, пока он борется с болью.
Мы толком не разговаривали. Это один из немногих случаев, когда он был в сознании или достаточно трезв, чтобы сказать что-то, что имеет хоть какой-то смысл.
После, должно быть, добрых нескольких минут молчания он наконец снова открывает глаза.
— Я ненавижу тебя, ты знаешь.
Улыбка появляется в уголке моего рта, раскалывая губу и наполняя рот кровью.
— Да, чувство взаимно.
Его плечи вздрагивают один раз, прежде чем ребра, должно быть, начинают болеть так сильно, что он быстро снова успокаивается.
— Зачем ты это сделал?
— Ты знаешь почему, — заявляет он.
— Ты настоящий тупой ублюдок, ты это знаешь, верно?
— Я обещал ей, чувак.
— Но они твоя семья. Твоя преданность должна быть с ними.
— С моим продажным, кровожадным дядей, ты имеешь в виду? Не, я, черт возьми, в порядке.
— Тебе повезло, что ты все еще жив, — бормочу я, не то чтобы это действительно нужно было говорить.
— Правда? Что-то подсказывает мне, что сейчас быть мертвым было бы легче.
В его глазах темнеет от боли, но это не только из-за его физических травм, и это выворачивает меня изнутри.
— Она тебе действительно небезразлична, не так ли?
— Имеет ли это значение?
— Нет, она моя, — яростно говорю я.
— Я знаю. Это было прямо там, в ту секунду, когда я увидел вас двоих вместе. Ты единственный счастливый ублюдок в этой комнате.
— Совершенно уверен, что мы оба терпим неудачу в жизни прямо сейчас. Итак, ты хотел последний кусок зеленого хлеба или можно мне его? — невозмутимо спрашиваю я.
Вытянув ногу, я пинаю поднос в его сторону носком ботинка.
Это был риторический вопрос. Судя по его виду, ясно, что ему это нужно больше, чем мне.
Эти парни могут быть жестоки со мной. Но это ничто по сравнению с тем, как они обращаются с ним.
Я враг. Но Ант хуже. Он предатель.
— Вкуснятина… моя любимая, — бормочет он, не споря со мной по этому поводу и протягивая руку вперед, хотя и медленно.
Каждое жевание кажется болезненным, но я сижу и смотрю, мой мозг работает так быстро, как только способен прямо сейчас, пытаясь придумать способ выпутаться из этого. Но в бетонной коробке, в которой мы были заперты, не так уж много гребаных вариантов.
— Нам придется выйти через дверь, — говорит Ант, как будто может прочитать мои мысли.
— Да, я не думал о том, чтобы копать гребаную яму.
— Нам просто нужно быть терпеливыми. — Я свирепо смотрю на него, серьезно не впечатленный этим предложением. — В какой-то момент мой дядя пришлет других парней.
— Как это поможет? Я не могу представить, как они просто открывают гребаную дверь и желают нам всего наилучшего.
— Ну, нет. Это никогда не будет так просто, но шанс будет.
Я изучаю его, пытаясь прочитать его невысказанные слова.
— У тебя уже есть план побега, не так ли?
— И да, и нет. Но, как тебе должно быть хорошо известно, когда ты танцуешь с дьяволом, тебе нужен способ убраться к черту подальше от него как можно быстрее.
Я киваю, видя Антонио Санторо с совершенно новой стороны.
***
Время идет, но, кроме болезненных визитов наших похитителей и случайной доставки еды, ничего не меняется.
Наши раны никогда не заживают, потому что они наносят все более мучительные удары, гарантируя, что боль никогда не уменьшится.
Они никогда ни словом не обмолвятся о своих планах в отношении нас, если и когда они планируют убить нас или как долго они хотят продолжать мучить нас.
Чем дольше это продолжается, тем больше у них шансов быть обнаруженными — при условии, конечно, что все не просто предположили, что я мертв.
Черт возьми, они все могли бы быть на моих похоронах прямо сейчас.
Мысль о Калли, стоящей там и оплакивающей меня, скручивает мои внутренности и заставляет мое сердце болеть.
Мне ненавистна мысль о том, что она страдает из-за этих итальянских ублюдков.
Но если они где-то там ищут меня, то с каждым днем они все ближе к тому, чтобы найти меня.
Прямо сейчас это большое «если», но это все, что у меня есть. Это наряду с надеждой на то, что что бы там ни планировал Ант, подробности о котором он отказывается мне сообщать.
Я вздыхаю, откидываю голову на стену и закрываю глаза.
Единственное, за что, я думаю, я могу быть благодарен прямо сейчас, это за то, что никого из нас не подвесили к потолку, как я полагаю, на несколько дней, вместо этого оставили прикованными в наших углах. По крайней мере, мы можем пошевелить нашими ноющими конечностями, хотя найти какой-либо комфорт невозможно.
У меня громко урчит в животе, но, как и в любой другой раз, когда это случалось, я игнорирую это, используя боль, чтобы придать мне сил.
Мои мысли переключаются на мою девочку, на наше время, проведенное вместе в доме моих бабушки и дедушки. Я думаю о ее улыбке, ее смехе, ее нежных прикосновениях и остроумии.
Я тону в своих воспоминаниях, в легкости, которую она привносит в мою жизнь.
Но вскоре мои воспоминания меняются, и парень, к которому она прикасается, целует, улыбается так, словно он буквально вся ее жизнь, — это не я.
Это Алекс.
Боль разрывает мою грудь.
Я заставил его пообещать мне, что он присмотрит за ней. И я не сомневаюсь, что он так и сделает.
Он любит ее. Может быть, не совсем так, как я, но его чувства к ней достаточно сильны, чтобы он поступил с ней правильно.
Но как далеко это заведет…
Я видел, как она смотрит на него. Я имею в виду, мы идентичные близнецы, было бы странно, если бы ее к нему не тянуло, верно?
По мере того, как мое тело изнемогает от изнеможения, образы их двоих продолжают проигрываться в моем сознании, их отношения растут, их связь крепнет, пока от меня не останется ничего, кроме воспоминания. Все разыгрывается в моем воображении: они вместе, целуются, трахаются, он надевает ей на палец гребаное кольцо, а ее живот раздувается от его ребенка.
— НЕТ, — кричу я, садясь так быстро, что боль пронзает каждый дюйм моего тела.