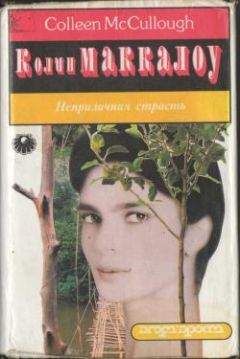Колин Маккалоу - Поющие в терновнике
– Потому что полон любви к Господу. И хочу служить ему всю жизнь.
– Понимаешь ли ты, чего потребует от тебя это служение, Дэн?
– Понимаю.
– Понимаешь ли, что никакая иная любовь не должна встать между тобой и Богом? Что ты всецело должен будешь принадлежать ему и от всех иных привязанностей отказаться?
– Понимаю.
– И во всем исполнять волю его, и ради служения ему похоронить свою личность, свое отдельное «я», ощущение своей единственности и неповторимости?
– Понимаю.
– Что во имя его, если надо, ты должен претерпеть и голод, и неволю, и смерть? И не должен ничем владеть, ничего ценить, что могло бы хоть сколько-нибудь умалить твою любовь к Господу?
– Понимаю.
– Довольно ли у тебя силы, Дэн?
– Я мужчина, ваше высокопреосвященство. Прежде всего я мужчина. Я знаю, будет трудно. Но я молюсь, и Господь поможет мне найти силы.
– И ты не можешь иначе, Дэн? Никакой иной путь тебя не удовлетворит?
– Нет.
– А как ты поступишь, если потом передумаешь?
– Ну, тогда я попрошу отпустить меня из семинарии, – сказал Дэн, удивленный этим вопросом. – Если я передумаю, это будет только означать, что я ошибся, не понял своего призвания. Тогда следует просить, чтобы меня отпустили. Моя любовь к Господу ничуть не станет меньше, но тогда я буду знать, что он ждет от меня иного служения.
– А понимаешь ли ты, что, когда ты уже дашь последний обет и примешь сан, возврата больше не будет, ничто и никогда тебя не освободит?
– Понимаю, – терпеливо ответил Дэн. – Но если надо будет принять иное решение, я приму его заранее.
Ральф со вздохом откинулся на спинку кресла. Был ли он когда-то столь твердо уверен в своем выборе? Была ли в нем такая сила?
– Почему ты приехал ко мне, Дэн? Почему захотел поехать в Рим? Почему не остался в Австралии?
– Это мама предложила, но я давно мечтал о Риме. Только думал, что на это нет денег.
– Твоя мама очень мудрая женщина. Разве она не говорила тебе?
– О чем, ваше высокопреосвященство?
– О том, что у тебя пять тысяч фунтов годового дохода и еще много тысяч лежит на твоем счету в банке?
Дэн нахмурился:
– Нет. Она никогда мне не говорила.
– Очень мудро. Но деньги эти существуют, и Рим в твоем распоряжении, если хочешь. Так хочешь ты остаться в Риме?
– Да.
– А почему ты хотел приехать ко мне, Дэн?
– Потому что вы для меня – пример истинного пастыря, ваше высокопреосвященство.
Кардинал болезненно поморщился:
– Нет, Дэн, ты не должен смотреть на меня так. Я далеко не примерный пастырь. Пойми, я нарушал все мои обеты. Тому, что ты, видно, уже знаешь, мне пришлось учиться мучительнейшим для священника путем – нарушая обеты. Ибо я не хотел признать, что я прежде всего простой смертный, а потом уже священник.
– Это ведь не важно, ваше высокопреосвященство, – тихо сказал Дэн. – Все равно вы для меня пример истинного пастыря. Просто, мне кажется, вы не поняли, о чем я говорил. Для меня идеал – совсем не какой-то бездушный автомат, недоступный слабостям человеческой плоти. Я говорил о том, что вы страдали и этим возвысились. Может быть, это звучит самоуверенно? Право, я этого не хотел. Если я оскорбил вас, простите. Очень трудно найти нужные слова! Я хотел сказать, чтобы стать истинным пастырем, нужны годы и тяжкие страдания и все время надо иметь перед собой идеал и помнить о Господе.
Зазвонил телефон; нетвердой рукой кардинал снял трубку, заговорил по-итальянски.
– Да, благодарю, мы сейчас же придем. – Он поднялся. – Время пить чай, и нас ждет мой старинный друг. Он, пожалуй, самый значительный служитель церкви после папы. Я говорил ему, что ты придешь, и он выразил желание с тобой познакомиться.
– Спасибо, ваше высокопреосвященство.
И они пошли коридорами, потом красивыми садами, совсем не такими, как в Дрохеде, мимо высоких кипарисов и тополей, мимо аккуратных прямоугольных газонов, вдоль которых вели прямые широкие галереи, мощенные мшистыми каменными плитами; шли мимо готических арок, под мостиками в стиле Возрождения. Дэн жадно все это впивал, все его восхищало. Удивительный мир, так не похожий на Австралию, древний, вечный.
Хотя шли быстро, это заняло добрых пятнадцать минут; вошли во дворец, поднялись по величественной мраморной лестнице, вдоль стен, увешанных бесценными гобеленами.
Витторио Скарбанца, кардиналу ди Контини-Верчезе, уже минуло шестьдесят шесть, он страдал ревматизмом и утратил былую стройность и подвижность, но ум его, живой и острый, был все тот же. На коленях у него, мурлыча, свернулась нынешняя любимица, сибирская дымчатая кошка Наташа. Он не мог подняться навстречу посетителям, а потому лишь приветливо улыбнулся и сделал знак войти. Взглянул на давно милое ему лицо Ральфа, потом на Дэна О’Нила… Глаза его расширились, потом сузились, неподвижным взглядом впились в юношу. Испуганно трепыхнулось сердце, рука, приветливо протянутая к гостям, невольно прижалась к груди, словно защищая это старое сердце от боли, – кардинал сидел и оцепенело, бессмысленно смотрел на молодую копию Ральфа де Брикассара.
– Витторио, вы нездоровы? – с тревогой спросил Ральф и осторожно взялся за хрупкое запястье, нащупывая пульс.
– Нисколько. Пустяки, минутная боль. Садитесь, садитесь.
– Прежде всего позвольте представить вам Дэна О’Нила, как я вам уже рассказывал, он – сын моего очень давнего близкого друга. Дэн, это его высокопреосвященство кардинал ди Контини-Верчезе.
Дэн опустился на колено, прижался губами к кардинальскому перстню; поверх склоненной золотистой головы кардинал Витторио посмотрел на Ральфа, вгляделся в лицо так зорко, так испытующе, как не вглядывался уже много лет. И стало чуть легче: так, значит, она ничего ему не сказала. А сам он, конечно, не подозревает того, что мгновенно придет на ум всякому, кто увидит их рядом. Не догадаются, конечно, что это отец и сын, но сразу поймут – близкое кровное родство. Бедный Ральф! Он ведь никогда не видел со стороны своей походки, выражения лица, никогда не замечал, как вздергивается его левая бровь. Поистине милосерден Господь, что создает людей слепцами.
– Садитесь. Сейчас подадут чай. Итак, молодой человек, вы желаете принять сан и обратились к помощи кардинала де Брикассара?
– Да, ваше высокопреосвященство.
– Вы мудро выбрали. При таком наставнике с вами не случится ничего дурного. Но мне кажется, вас что-то тревожит, сын мой, – может быть, смущает незнакомая обстановка?
Дэн улыбнулся улыбкой Ральфа, в ней только не было, пожалуй, присущего Ральфу сознательного желания очаровать, и все же то была улыбка Ральфа, и старое усталое сердце содрогнулось, будто его мимоходом хлестнули колючей проволокой.