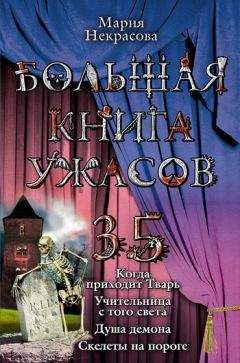Тщеславие - Лебедева Виктория
Временно я перестала смеяться, когда увидела наконец Славину «дачу». «Дачей» оказались четыре стены: оконные проемы без стекол и даже без рам, пола нет и в помине, впрочем, дверей тоже нет; не до конца настеленный потолок и черепичная крыша над ним. Увидев все это, я испытала нечто очень похожее на шок. Слава, сразу поняв причину моего ужаса, сначала издевался: «А что ты расстроилась, крыша-то имеется», а потом повел во времянку, которую за каркасом дома с улицы видно не было.
— А родители-то где? — спросила я.
— А, — Слава равнодушно махнул рукой в произвольном направлении, — они вечером подъедут… Если, конечно, дождь закончится.
Два часа спустя, в маминых тренировочных брюках с начесом, в сером безразмерном свитере и в резиновых полусапожках, которые невыносимо жали, я посиневшими руками чистила на пороге времянки картошку, а рядом сидящий Слава развлекал меня анекдотами из своей школьной жизни. При этом он постоянно сам себя перебивал разными замечаниями на тему «ты хорошая хозяйка» и «с тобой не пропадешь», забрасывал пробные шарики полунамеков, совсем еще несмелых, мне было неловко, я отшучивалась, возвращала разговор в более привычное русло. Нет, мне было приятно, что он меня хвалит, но в голове помимо воли загорался «стоп-сигнал», и я, как говорится, увиливала.
До вечера мы пытались согреться разными общественно полезными способами: готовили еду, ходили за водой к колодцу, посуду мыли и прочее и прочее, а наша городская одежда исходила паром на стареньком масляном обогревателе, наполняя комнатку запахом влаги, но упорно не сохла.
Быстро темнело, недостроенный дом уходил в ночную тень, садово-огородные дорожки обратились в маленькие беспорядочные ручейки, но дождь и не думал прекращаться, он лил и лил, монотонно, однообразно барабанили о крышу полновесные капли.
В остальном мире царила близкая к абсолюту тишина, и он погружался в тень вслед за будущим домом, а небо с каждым часом опускалось на нас все ниже и бесповоротнее. Мы в первый раз за два года знакомства заговорили серьезно, и каждый спешил поведать другому о том, кто же он на самом деле, а вернее — каким он сам себя представляет. Это было одинаково странно нам обоим, но разговор все тек и тек, как текла эта неуемная дождевая вода, а мы, постепенно переходя на шепот, кружили вокруг одной-единственной точки отсчета, и круги образовывали концентрическую воронку, и уже непонятно было, кто кого водит за нос. Мы сидели друг против друга, не зажигая света, и восторженно бредили, сами еще не понимая о чем, а масляный обогреватель стоял между нами, как последняя линия обороны.
— Как ты ко мне относишься? — тихо выдохнул Слава.
— Хорошо, — дрожащим голосом ответила я, а он спросил:
— Как к другу хорошо? — и накрыл мою руку своей ледяной, посиневшей ладонью. Едва я открыла рот для ответа, как от калитки послышался высокий женский голос:
— Слава, мы приехали!
Вам знакомо чувство ностальгии?
Наверняка знакомо.
Кто-то вспоминает старый кривобокий домик на краю деревни, где каждое лето гостил у тогда еще нестарой, полной энергии бабушки, пил на завтрак молоко — свежее, пятнадцать минут как из-под коровы, а на ужин лопал толстопузые оладьи с произвольным количеством любимого вишневого варенья. Кто-то вспоминает головоломку вечерних московских улиц, которую разгадывал на самом первом, самом главном своем свидании: руки осторожно и как бы сами собой сплетались, и повисало в воздухе чрезвычайно ловкое молчание, а огни соседних домов расходились кругами по воде в не замеченных от волнения лужицах. А у кого-то в голове нет-нет да и зазвучит дурацкая песенка: нелепый текст в сопровождении вообще не музыки, а все потому, что именно она ненароком выпорхнула из чужого окна в один из редких радужных моментов его вполне одноцветной жизни.
Так что все мы о чем-то вспоминаем.
И когда у нас доброе, немного задумчивое настроение, эти воспоминания — как ваниль в пироге: придают вкуса нашей доброй задумчивости, а потом совсем безболезненно тают, оставляя во рту сладкий холодок, а на сердце почти воздушную легкость.
Но это — в лучшем случае. А еще бывает, что мир вокруг рушится, или нам кажется, что рушится, но ощущения, поверьте, одинаковые. Тогда из-под подушки выползает осознание собственной никомуненужности, и каждый шорох гвоздем вбивается в голову, а телефонный звонок приравнивается ко взрыву, и все надежды на что бы то ни было начинают агонизировать и временно отмирают. И тогда эти некогда добрые и воздушно-легкие воспоминания выпускают зубы и когти и начинают глодать. Становится все больнее, и все бывшие медали поворачиваются обратными сторонами, а эти обратные стороны, в свою очередь, приобретают более четкие очертания, тоже в основном вымышленные, но от этого не легче. И тогда хочется только одного: забыть все это и не вспоминать больше. Но чем сильнее желание, тем оно неосуществимее. Как жаль, что память, к примеру, не ангина, как чудесно было бы вылечиться от нее при помощи пятидневного курса антибиотиков…
Прошло уже много лет, но вышеупомянутое воспоминание я по сию пору, безусловно, отношу к разряду «глодающих». Казалось бы: детство, глупость и наивность, мелочь мелкая, а вот не отпускает, не отпускает меня чувство нелепой утраты… Вот и сейчас, стоит мне на минуту об этом вспомнить, как родится в груди, чуть выше солнечного сплетения, свербящее студеное чувство, которое принято называть душевной болью. И, как назойливая соринка в сапоге, сидит внутри меня одна крошечная колючая мысль — они не должны были приехать… А вот приехали…
У него оказалась милая, добрая, чуть наивная мама, папа был великолепно образован, обладал неистощимым запасом историй и анекдотов на все случаи жизни, умел умно и тонко подшутить над вами без тени улыбки, а вдобавок ко всему прекрасно играл на гитаре и пел много лучше своего эстрадного однофамильца. И, несмотря на всю нелепость сложившейся ситуации, между нами чрезвычайно быстро возникла взаимная приязнь.
Уже к обеду следующего дня, когда дождь наконец прекратился и вышло над поселком жаркое июльское солнце, когда небо вернулось на свою исконную высоту и сделалось синим-синим, когда превратились обратно в дорожки все маленькие реки дачного участка, мы с мамой уже дружно пропалывали огурцы в теплице и вели беззаботную беседу о выкройках и кулинарных рецептах. Она, предварительно обсудив со мной Славин внешний вид, уже кричала ему на другой конец огорода, где он помогал отцу разводить цемент:
— Слава, Геракл сушеный, смени майку на футболку! Мы тут с Надей посоветовались и решили, что у тебя не та мускулатура, которую следует демонстрировать!
Я смущалась, а Слава беззаботно кричал в ответ:
— Ваши проблемы! Мне, может быть, жарко!
За обедом папа, человек солидных пропорций, дивился моему плохому аппетиту, а попутно ловил Славу на слове, если тот начинал вдруг хвалиться или привирать. И, о чудо, Славин язык, который в обычном состоянии не содержал в себе костей и всегда готов был довести до Киева, вдруг совершал акт гражданского неповиновения своему хозяину и запутывался в цепи неловких оправданий.
Да, хорошая была семья, никаких тебе проблем в стиле «отцы и дети», никто ни на кого не огрызается по мелочам, никто ни на кого не дуется из-за пустяков. И не действует это гадкое всеобщее правило: «я вдвое старше, а значит — вдвое умнее».
«Везет же ему!» — думала я с завистью, а к вечеру субботы, когда мы сошлись у костра на ближайшей к их участку лесной полянке печь картошку, уже чувствовала себя «дома». И больше не ощущала неловкости за их вчерашний внезапный приезд, думала, что это, возможно, к лучшему. А что там чувствовал Слава, кто его знает, вел он себя вроде как обычно.
В воскресенье родители засобирались в город, и я засобиралась вместе с ними.
— Может, останешься еще на пару дней? — спросил Слава с как можно более равнодушной интонацией в голосе.
— Да я бы с радостью, только мать меня убьет, я обещала вернуться сегодня.