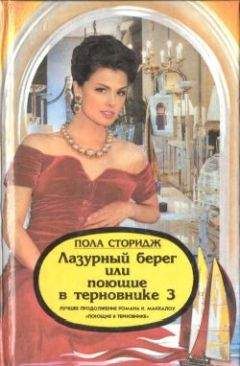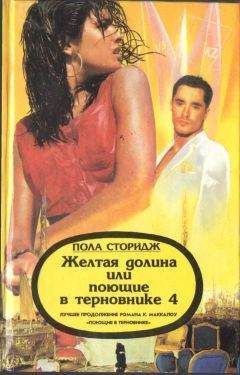Мария Нуровская - Другой жизни не будет
— Может быть, что-нибудь из еды, начал он.
— Лучше натощак, как во время первого причастия.
Выпили. Обожгло горло.
— Ну, водка что надо. Не выдохлась, — сказал сын, глаза у него загорелись.
— Михал, а ты помнишь маму? — спросил он тихо.
— Я даже не знаю. Для меня она уже второй раз на тот свет отправляется.
— Как это?
— Да так. Бабка еще тогда мне сказала, что мать приказала долго жить.
— Бабушка что-то… Что-то перепутала, может, ты чего-нибудь не понял…
— Я-то все правильно понял, отец. Но это старая песня, и незачем ее на новый лад перекраивать.
Припомнился ему Михал после расставания с Вандой. Он постоянно плакал и спрашивал, когда же вернется мама. Сторожил под дверями, не идет ли случайно. Потом все реже и реже вспоминал ее.
— Когда бабушка тебе это сказала?
Сын иронично усмехнулся:
— Ты хочешь знать точную дату? В феврале. Из Германии мы уехали в январе, и она мне в феврале это преподнесла. Воскресенье было, на обед курица с овощами готовилась.
Он не знал, смеется над ним сын или действительно тот день врезался ему в память. Михал не подал вида, но тоже был взволнован. Как бы смерть Ванды за океаном разворошила в них обоих воспоминания. Заглянули в прошлое.
— Хорошее у меня было детство, — проговорил Михал. — Каждый бы мог позавидовать. Пьяный отец спозаранку в дом притаскивается, его в постель уложить нужно, ботинки снять. Не всякий знает, что это за искусство — расшнуровать ботинки, когда такое быдло кричит и лягается.
— А ведь тебя это ничему не научило. Когда-нибудь и твой сын скажет тебе то же самое, — изрек он с горечью.
— Видно, это по наследству от отца к сыну переходит. Интересно, братишка-профессоришка тоже этот груз тащит?.. Не знаю, как там было между вами, почему мать ушла. Одно могу сказать, отец: тебя женщины погубили. Эта докторша, которая сил не имела, чтобы слово из себя выдавить, потом та, вторая, — классная девка, ну и незабвенная бабка Гнадецка. Крутили они тобой как хотели. Только мама была другая. Щенком был, а помню. Не прокладывала себе дорогу сиськами, как делали другие твои женщины. Всегда на шаг за тобой, отец, стояла…
Он опустил голову после этих слов сына. Что он мог ему сказать. Михал потянулся к рюмке.
— Что-то ты сегодня, отец, отстаешь… А эта Марта, хорошая была задница. Можно сказать, дала мне путевку в жизнь. Что ты глаза-то делаешь? Было так, святая правда. Сначала в халатиках в ванну ходила. Сквозь них все просвечивало. Я ночами после этого в кровати вертелся. В конце я ее достал. Но вы тогда уже разведены были. Раз нас бабка Гнадецка накрыла, думал, что «скорую» нужно будет вызывать.
— Тебе же семнадцать лет тогда было.
— Достаточно.
Напились оба. Он даже не помнил, когда ушел Михал. Всю ночь с ним творилось что-то странное. Не лег, как всегда в таких случаях, в одежде на кровать, а слонялся по дому и не мог найти себе места: включая и выключая свет, открывал дверь в ванную, потом закрывал ее, кружил по дому, как раненый зверь. Это продолжалось достаточно долго. Все время разговаривал сам с собой, а точнее, с ней…
Даже если не нужно было бы тебя топором обтесывать, все равно между нами ничего бы не получилось. Опустошенный я, Ванда. Ничего мне не нравится. Не знаю, кто я есть и кем я был, предпочитаю не помнить. Я только оболочка, мешок из кожи и мяса, ничего больше…
А ведь могло быть иначе, если бы ты со мной осталась. Почему ты так легко на все соглашалась, почему была покорной? Мы бы теперь радовались сыну, и Михал жил бы иначе… Он где-то прав, зачем мне нужны были другие женщины, ни одна меня не согрела. Веся… не была она для меня партнершей. Всегда боялся нанести ей вред, когда обниму посильнее, казалось, что она раскрошится в руках. Хорошо, что быстро от меня ушла. Только что с того. Было уже поздно. Мексика прошла мимо носа. А ты бы не позволила, ты бы сразу сказала: паковать чемоданы. Всегда знала, что для меня хорошо. Когда в загранкомандировку уезжали, тебе это было не по душе, хотелось остаться в нашем семейном гнезде, а, однако, сердце разуму уступило.
— Ну что, Ванда, — спрашивал я, еще больше мучаясь сомнениями, чем ты, — как думаешь, справлюсь?
Ты только головой кивнула, слезы не давали тебе разомкнуть губ.
Ты верила в меня и обладала тем инстинктом, которого не хватало мамаше… Она тоже только обо мне пеклась, а что бы ни сделала — как об стенку горох… Не получилось так, как она хотела, себе все испортила и нам не дала жить… Но ты прости ее, как простил я. Только один я знаю, чего это невезение ей стоило. Под конец жизни на месте сидеть не могла, металась — от двери к окнам, от стены к стене. Эта непоседливость, как болезнь… Яд, который годами копился в ней, ее же и травить начал. Не могла слушать о тех, кому везло в жизни. Видишь, видишь, повторяла, как в горячке, обокрали тебя… И слезы в ошалелых глазах… Глаза моей матери, Ванда, это самое мое большое угрызение совести. Поглядывают на меня из темноты… Я сильно обманул женщину, которая умела так любить и так ненавидеть.
Ты, Ванда, смогла быть только женой, поэтому должна ее понять. Она тоже не могла быть никем, лишь матерью… Мне было шесть лет, когда погиб отец — несчастный случай на улице. Мы возвращались с похорон, она держала меня за руку. На лице черная вуаль. Когда сняла эту тряпицу, ее глаза стали искать меня, и так уж до конца и осталось… Не пренебрегай, Ванда, ее миссией… Эта была личность, герой, достойный шекспировской драмы. А я ее сын, какая-то малость… Пока жила, мое существование имело смысл, я был словно продолжением ее трагической судьбы… Теперь… что я могу с собой поделать… Помоги, умоляю. Сними с меня эту лапу, которая меня, как червя, к земле прижимает…
Поднял голову и, увидев в зеркале перед раковиной свое лицо, изумился. Он плакал.
«Так это быстро понеслось, что я даже удивиться не успела. Ничего не успела — ни поблагодарить, ни помочь. Я больная, говорит Галина, умираю. Я слов из себя выдавить не могу, а она усмехается. Ты о себе должна думать, о ребенке. Обо мне никто плакать не будет.
Сестра у меня в Америке есть. Я уже ей письмо написала. Запакуешь вещи, сына под мышку и в дорогу. Здесь тебя уже ничего хорошего не ждет. Шутка, думаю, а она головой кивает. Я бы хотела, чтобы ты моих похорон не ждала, но, зная тебя, понимаю: не отступишься до конца. А потом уезжай, это мое желание.
Я в слезы, но чувствую: близок ее конец. И трех месяцев не прошло, как мне за гробом Галины пришлось идти. С похорон — на поезд и в усадьбу ксендза. Вошла в дверь, а тетка аж руками всплеснула. Бог мой, как ты выглядишь! А потом говорит: она ведь тебе даже никакая не родственница. Для меня, отвечаю, она ближе, чем мать, чем сестра, чем… А тетка: ну продолжай, продолжай… чем ребенок? Что-то мало в твоем сердце для него места.