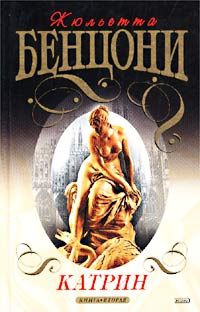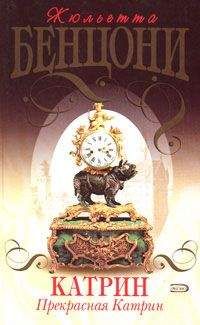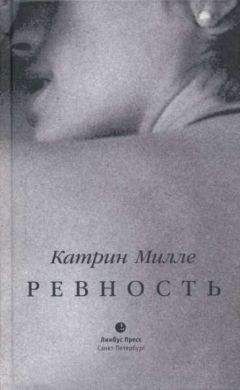Лайза Аппиньянези - Память и желание. Книга 2
Следующим по важности после физкультуры предметом считалось моральное воспитание; далее по убывающей следовали ботаника, языки и пластические науки. Мадам Шарден была протестанткой и находилась под сильным влиянием идей Руссо, причем особое впечатление на нее произвели воззрения Жан-Жака на проблемы воспитания. Считалось, что сначала должны следовать естественные науки, и вбивать их в головы учениц следует с неукоснительной строгостью.
Прочитав свод школьных правил, Катрин затосковала. Отведенная ей комната производила гнетущее впечатление спартанской простотой обстановки: три кровати, три тумбочки, один письменный стол и никаких признаков того, что здесь обитают живые люди. Катрин, которая, за исключением недели, проведенной у Томаса Закса, никогда не отлучалась из родительского дома, с ужасом думала о том, что ей отныне предстоит существовать под гнетом суровых правил мадам Шарден. Если бы не страх перед матерью, забыть о котором было невозможно, Катрин, наверное, расплакалась бы от тоски по дому. Но если о семейном очаге она вспоминала без ностальгии, то об Антонии и свободных нравах своей нью-йоркской школы вздохнула не раз. Там, в Америке, считалось, что учитель – друг ученика…
– А вот и новенькая.
Катрин обернулась и увидела высокую стройную девочку со светлыми волосами. За ней в комнату вошла еще одна – меньше ростом и круглее. Первая протянула руку:
– Я – Порция Гэйтскелл, а это – Мари-Элен Бомон, – сказала она по-французски, но с английским акцентом. – Не обращай внимание на чушь, которую понаписали в инструкции. Директриса обожает пугать новеньких.
Обе девочки засмеялись, и Катрин тоже робко улыбнулась.
– Вот твоя кровать, вот твоя тумбочка. – Порция показала на место возле стены. – Можешь распаковать вещи прямо сейчас. Или, если хочешь, мы сначала покажем тебе школу. «Ваш долг, девочки, позаботиться о том, чтобы новые ученицы чувствовали себя здесь как дома», – внезапно произнесла Порция назидательным тоном директрисы, и Мари-Элен весело захихикала.
– Порция отлично умеет передразнивать мадам Шарден, – сообщила она тихим бархатным голосом. – На, попробуй. Сразу почувствуешь себя как дома.
Мари-Элен открыла дверцы шкафа, порылась в глубоких карманах зимнего пальто и достала оттуда коробочку трюфелей.
К концу вечера, после того как Катрин поужинала за общим столом в просторной столовой, выслушала торжественную речь директрисы по поводу начала нового семестра, а затем, после отбоя, поболтала со своими новыми подругами, у нее сложилось твердое убеждение, что в пансионе ей будет жить куда лучше, чем дома.
Шли недели, и единственное, что расстраивало девочку – так это то, что ее подруги успели повидать на своем веку гораздо больше, чем она. Правда, Мари-Элен была на год старше, а Порция – на целых два, но дело ведь не в возрасте. Обе соседки Катрин были гораздо опытнее ее и при первой же возможности бесшабашно нарушали школьные правила. В этих выходках чувствовался и вызов, и детская любовь к озорству, и страсть к таинственности и заговорам, неизбежно возникающая, когда подростки живут в вынужденном отрыве от внешнего мира.
Если бы родители узнали, чем занимаются в швейцарском пансионе их девочки, первой реакцией был бы ужас. Впрочем, вероятно, немного поразмыслив, наиболее разумные из взрослых пришли бы к выводу, что эти маленькие заговоры и эскапады как нельзя лучше готовят девочек к будущей светской жизни. Отец Порции был послом, и девочка успела пожить в Нигерии, Китае и Вашингтоне. Она прекрасно знала, что такое секреты и интриги. Мари-Элен была дочерью богатого французского промышленника, и каждое лето проводила в каких-нибудь экзотических местах, дававших богатую почву для работы воображения.
Воспитанницы пансиона являли собой целую Организацию Объединенных Наций в миниатюре – так сказать, ООН знатности и богатства. Когда разговоры заходили о выгодных замужествах, скандальных разводах, тонкостях высокой моды и непредсказуемости мужчин, Катрин чувствовала себя полной невеждой. Поражало ее и то, с какой изобретательностью девочки плели сложнейшие интриги, желая нанести удар по ненавистной преподавательнице или не понравившейся им соученице. Не менее хитроумные планы составлялись, когда нужно было просто на несколько часов улизнуть со школьной территории на волю. Катрин часто вспоминала прощальные слова Томаса и думала, что она, пожалуй, и в самом деле слишком невинна.
На первых порах она почти не открывала рта и больше слушала, а затем, лежа вечером в постели, размышляла об услышанном. Она писала Антонии длинные письма, в которых пересказывала подруге увиденное и услышанное – причем такими словами, которые были бы понятны девочке из Нью-Йорка. Еще Катрин писала брату, однако так до конца и не простила ему предательство. Письма родителям были короче и выдержаны в нарочито жизнерадостном тоне. Информации о жизни в пансионе в этих посланиях почти не было.
Но самые многословные депеши Катрин посылала Томасу Заксу, и он отвечал ей столь же пространно. Их переписка стала для девочки своего рода вторым образованием. Она читала книги, которые рекомендовал Томас, а потом делилась с ним впечатлениями от прочитанного. В результате обитатели «Человеческой комедии» Бальзака стали для Катрин близкими знакомыми, каждый из которых олицетворял какое-нибудь из качеств – корысть, честолюбие, любовь, предательство. Литература давала девочке знание жизни, которого она еще не могла иметь по молодости лет. Остроумные, язвительные письма Томаса стали неотъемлемым атрибутом внутреннего диалога, разворачивавшегося в душе Катрин. Иной раз с ее губ срывались такие слова и фразы, что учителя и подруги не верили собственным ушам.
В июне, когда на горных лугах распустились неяркие альпийские цветы, Катрин почувствовала, что окончательно освоилась со школьной жизнью. Ей почти перестали сниться кошмары о доме и матери. Девочка жила в настоящем времени, всецело увлеченная ежедневной рутиной и мелкими нарушениями этой рутины. Лишь когда другие девочки начинали разговаривать о своих родителях, иной раз проявляя в суждениях безжалостность, столь свойственную переходному возрасту, Катрин приходила в смятение и умолкала. Она не могла заставить себя говорить об обстоятельствах, послуживших причиной ее поступления в пансион мадам Шарден. Катрин предпочитала даже не думать на эту тему.
С принцессой она по-прежнему держалась робко. Эта женщина вызывала у нее такое восхищение, что преодолеть барьер было непросто. Но Катрин научилась доверять Матильде так, как не доверяла никому из женщин. В ее французском стали появляться обороты и высказывания, почерпнутые из лексикона принцессы. Катрин этим гордилась.