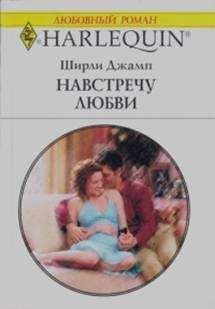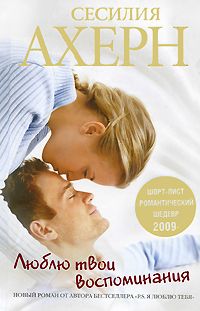Ширли Эскапа - Время любви
— По-моему, еще Цицерон говорил, что закон умолкает, когда начинается война.
— Вы не ошиблись, это действительно сказал Цицерон, — подтвердил отец Доннелли и, помолчав, добавил: — Меня просили передать, что синьор Тортелли с благодарностью принимает ваше предложение.
— С благодарностью?
— Вот именно. Сегодня утром я удвоил сумму, названную мной вчера, и это возымело действие. — Неправильно истолковав удивленный взгляд Марка, священник поспешно сказал: — Нет-нет, не волнуйтесь, это как раз столько, сколько вы сами назначили, ни пенни больше.
— Невероятно! — воскликнул Марк. — Просто невероятно. — Он широко улыбнулся, но улыбка быстро угасла, а брови сосредоточенно сошлись на переносице. — Они, надеюсь, не знают, что деньги от меня? То есть я хочу спросить, сказали ли вы, что платит Винченцо?
— Уверяю вас, ваше имя упомянуто не было, — торжественно заверил его отец Доннелли. — Вообще-то мне, видимо, не стоило удваивать сумму. Они бы немного поторговались, но в конечном итоге все равно согласились бы. У таких бедных людей, как Тортелли, иного выбора нет. — Внимательно посмотрев на майора, он вдруг спросил: — Вам ведь это известно, не так ли?
— Мне?
— Перед вашим приходом я как раз размышлял о жизненных превратностях. Как это ни странно, деньги могут обернуть зло во благо.
— Я не совсем уверен…
Священник презрительно усмехнулся:
— Да, это действительно так, уж поверьте. Девушка скажет, что она солгала об изнасиловании. И это тоже будет ложь, но ложь во спасение, которая не затронет ничьей чести, кроме ее собственной.
— Я понимаю, что вы имеете в виду.
— Прекрасно. Впрочем, я и не сомневался, что вы поймете. Итак, она заявит итальянским полицейским, будто сама соблазнила американского офицера. И еще сообщит, что избил ее совершенно другой человек, о котором она помнит лишь то, что у него страшный калабрийский акцент.
— Даже не знаю, как вас благодарить, святой отец, — робко пробормотал Марк.
— Я могу добавить еще кое-что, сын мой. Девушка интересовалась вашей персоной.
— Правда? — От неожиданности Марк даже привстал со стула.
— Да. Она достаточно точно описала вашу внешность: высокий красивый офицер с добрыми глазами. А еще добавила, что вы дали ей шоколад. — Старик задумчиво улыбнулся. — Как-то одна пожилая деревенская женщина в разговоре со мной сказала, что на свете существуют два типа людей: порядочные и проклятые. Именно так она и выразилась — порядочные и проклятые, я это запомнил навсегда. Она пояснила, что порядочные люди дарят конфеты детям во имя добра, а проклятые делают то же самое во имя зла. — Священник снял очки и устало потер глаза. — Крестьянка тогда добавила, что добро может понять зло, а вот зло никогда не в состоянии понять добро.
Замолчав, он снова водрузил очки на нос. Внутренним чутьем Марк понял, что священник еще не все сказал, и остался сидеть на своем стуле. Отец Доннелли долго молчал, уставившись затуманенным взглядом в окно, потом встал.
— Будем молиться, майор, чтобы Америка была хотя бы наполовину так добра к этой чистой душе, как она того заслуживает. И не обманула ее надежд, — закончил он тихим голосом.
Марк решил, что в ванну уже набралось достаточно воды, чтобы хорошенько искупаться, и устремился по коридору, украшенному канделябрами, в дальний угол квартиры. Он так торопился погрузиться в роскошную, черного оникса ванну графини, что не заметил пару армейских ботинок на своем пути и, споткнувшись об них, упал. Раздался истерический хохот. Марк поднял глаза и увидел прямо перед собой согнувшегося пополам Винченцо.
— Это ты? Какого черта?.. — Закончить Марку не удалось, ибо его самого разобрал смех.
Отхохотавшись, друзья уставились друг на друга.
— Итак, тебя отпустили, — констатировал Марк, все еще сидя на холодном мраморном полу.
Взгляд Винченцо стал виноватым.
— Оказывается, я ничего такого не сделал… — хриплым голосом пробормотал он.
Марка охватило двойственное чувство — отвращения и облегчения, однако облегчение победило. Он вскочил на ноги и испустил радостный вопль:
— Ура! Молодец!
— Господи, Марк, как тебе это удалось? Я ничего не говорил, как ты велел, и вдруг мне заявляют, что я свободен. Ничего не понимаю. Как это получилось?
— И не надо понимать. Однако быстро сработало! Даже не ожидал.
— Мне сказали, что она созналась, понимаешь? Соврала. И еще сказали, что во всем виновата она, а моя совесть чиста и я свободен.
— Все верно.
— Меня отправляют в другую часть.
— Куда?
— Еще не знаю. Завтра в шестнадцать ноль-ноль я должен явиться к полковнику Сондерсу.
— Ну ладно, Винченцо, пойдем, я куплю тебе что-нибудь выпить. Ведь надо отпраздновать твое освобождение. Только ванну приму, ладно?
— Спасибо тебе, дружище. — Винченцо протянул Марку руку. — Ты и впрямь спас мне жизнь, хоть я и не могу взять в толк, как это у тебя получилось.
Марк секунду боролся с собой и лишь после некоторого усилия заставил себя взглянуть в глаза Винченцо.
— Не надо меня благодарить, я сделал то, что должен был сделать, чтобы вернуть свой долг.
Когда же Марк наконец вылез из благословенной ванны, Винченцо, полностью готовый к выходу, уже ожидал его в гостиной.
— Слушай-ка, парень, — с ходу заявил он, — давай уговоримся о встрече. Надеюсь, ты не против?
— Буду только рад. Когда и где?
— В июне пятьдесят четвертого. В Риме.
— Договорились, лейтенант. Итак, запомните: вы обязаны явиться в «Гранд-отель» двадцать второго июня 1954 года ровно в шестнадцать ноль-ноль!
* * *В тот же вечер, вернувшись в квартиру после вечеринки с приятелем, Марк засел за письмо жене. Из-под его пера вышло всего несколько строк, после чего Марк остановился и глубоко задумался. Продолжать не было сил.
Странная вещь, думал он, комкая лист бумаги и отправляя его в мусорную корзину, он всегда гордился своим происхождением и воспитанием, а теперь именно они ему мешают объясниться с самым дорогим человеком на свете. Скромность, застенчивость, замкнутость и гордость — вот что как препятствие встало между ним и Фрэн.
В полном отчаянии Марк встал из-за стола, вышел в тот самый коридор, где накануне так нелепо растянулся на полу, и принялся мерить его шагами.
Как, ну как объяснить жене, что его увлекла невинная красота очаровательной девочки, как сказать простыми словами о ее чистоте и о том, как эта чистота была грубо попрана? Могла бы его жена — да что там говорить, любая женщина в мире — понять и простить то совершенно невинное чувство, ту нежность, что он ощущал к этой простой, необразованной девочке, которую и видел-то только дважды и то так недолго?