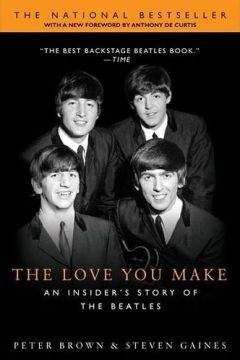Кэрри Браун - И всё равно люби
Доктор Веннинг наверняка велела бы ей вылезти из меланхолии, сбросить ее с себя. Она обожала дурацкие иронические афоризмы. «Ну же, Рут, выше нос! – тормошила она ее. – Счастье, оно ведь как теплый щенок!»
Рут забавляло, насколько доктор Веннинг тянется к 1960-м. За исключением вьетнамской войны, которой она яростно воспротивилась, доктор Веннинг радостно приняла легкую моду на лозунги того десятилетия.
– «Занимайтесь любовью, не войной». Вот ведь как все просто! – восхищалась она.
Ей нравился символ мира, нравилось желтое улыбающееся лицо, которое однажды появилось повсюду, нравились хиппи – они казались ей прекрасными и невинными (при этом она жестко не одобряла наркотики: «Люди просто не понимают последствий», – говорила она).
– Им хочется сделать мир лучше, этим ребятишкам хиппи, – они думают, что у них это получится. И слава богу!
Ей нравились названия эстрадных ансамблей: «The Monkees». «Herman’s Hermits». «Jefferson Airplane». «The Lovin’ Spoonful».
– Ты либо едешь на автобусе, либо не едешь, – так говорила она Рут.
Рут в ответ лишь удивленно округлила глаза.
– Помнишь автобус? Давай, Рут, забирайся, – любила приговаривать доктор Веннинг, когда ей казалось, что Рут слишком зациклилась на своих печалях.
– Перестань вечно беспокоиться, куда едет твой автобус, не свалится ли он со скалы. В конечном счете ты все равно окажешься по ту стороны скалы, что бы ты ни делала. Так постарайся пока наслаждаться поездкой.
– Да, но что же делать, если я просто не могу ею наслаждаться? – возражала Рут.
– Тогда буду пичкать тебя лекарствами, наркотическими средствами, – ворчала доктор Веннинг. – Но не думаю, что тебе это нужно.
– Ты уверена? – недоверчиво переспрашивала Рут.
– Вполне, – кивала доктор Веннинг. – Доверься мне. Я же врач.
Рут легонько провела расческой по волосам. Никому сегодня нет дела до того, как она выглядит, ей просто надо поторопиться.
И все же она придирчиво оглядела себя – такую чужую и такую привычную – в зеркале. На память пришли слова псалма: «Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей».
У нее всегда был дар – Питер называл его иррациональным – случайно попадать в нужные строки среди церковных догм.
Бог? – Да, возможно. Рай и ад? – Нет.
Ноев ковчег? – Нет, конечно.
Хлебы и рыбы?.. – Что ж, неплохая мысль. Ям Суф, Красное море, воды расступились? – Да, яркий образ, трудно его забыть.
– Знаешь, что мне нравится? – спросила она однажды Питера. – Мне нравится «так». «Так, благость и милость…» Это же вопрос, ты согласен?
Питер, который как раз собирался укладываться спать, натянул на себя белую пижамную футболку и уселся рядом с ней на кровати.
– Рут, ты неисправима – исповедуешь страстные сомнения, – отвечал он. – Пожалуй, да. Вопрос.
– Тогда уж сомнение, – похлопала она его по руке.
– Пусть так, – согласился он. – Сомнение.
И чего же хорошего принесли тебе твои сомнения? – спросила себя Рут, поддернув юбку на платье.
Пора. Некогда предаваться метафизике.
* * *Она спустилась вниз, рукой скользя по перилам. На кухне достала из ящика фонарик и распахнула дверь в подвал – шаткие скрипучие ступени уводили в густую промозглую тьму, будто в пещеру. Батарейка садится. И почему эти фонари никогда толком не работают?
В подвале она неуверенно нащупала путь через нагромождение коробок, паутину, завалы какого-то отсыревшего старья. Как же холодно здесь, и противный запах откуда-то доносится.
Наконец добралась до распределительного щитка, пошарила фонариком по переключателям, все надписи на которых давно стерлись, и повернула один из них.
Сперва ничего не произошло. Но спустя пару мгновений она почувствовала, как дом вздохнул и тихонько загудел над ее головой.
Рут взобралась обратно по лестнице, держась рукой за холодную гладкую палку перил. Питер наверняка уже потерял ее, беспокоится.
В холле она снова остановилась перед зеркалом, теперь уж точно в последний раз. На щеке какая-то сажа. Лизнула палец, потерла.
И тут услышала звук где-то наверху. Шаги?
Подошла к подножию лестницы и прислушалась. Позвала:
– Питер? Это ты там?
Никто не ответил.
Показалось, должно быть.
Глава 2
Через пять минут на лужайке под окнами школьной столовой она остановилась снять туфли. Она редко надевала их, туфли оставались парадными и неразношенными, бежать в них было бы невозможно. И все-таки она надеялась, что никто сейчас не выглянет в окно и не увидит, как жена старого директора, подхватив башмаки и растеряв достоинство, несется босиком в одних чулках вверх по холму.
На пустые лужайки, крыши строений тихо спустился мягкий вечерний свет. Темный блестящий плющ, вившийся по кирпичным стенам, доходил кое-где до второго этажа. По небу проносились птицы, стремительно подлетали к стенам и исчезали в них, словно ныряли в воду. Это зрелище никогда не утомляло ее. То тут, то там листья подрагивали – птицы устраивались на ночлег. Рут нравилось слушать вечерний шорох, исходивший от стен. Они будто оживают. Как зеленые лохматые великаны из кирпича и известки, просыпаются и потирают затекшие конечности.
Здание школы казалось совершенно пустым, но когда она взобралась наконец на вершину холма, из открытых окон до нее донесся приглушенный напев оркестра, позвякивание посуды и мальчишечьи голоса. Мешанина звуков плыла над тихим вечером и производила странное, прямо-таки инопланетное впечатление. Невидимые гости, навечно приговоренные к своему невидимому ужину, подумалось Рут.
Тихий, чистый воздух казался фарфоровым – ничто не напоминало о грозных штормовых предупреждениях по радио; видимо, злобные торнадо перенесли свои коварные планы в другое какое-то место. Рут обвела глазами такой знакомый пейзаж: кольцо зданий на вершине холма, полукружьем поднимающаяся к ним подъездная аллея и на ней – тающий в ранних сумерках белый свет фонарей. На бархатном склоне разлеглись огромные косматые тени деревьев.
Ох, как не хочется в помещение, не хочется уходить отсюда. Вот бы улечься на сочной траве, вдыхать сладкий воздух и глядеть, глядеть, как появляются на небе звезды…
Под вечер стало прохладно, но прогулка бегом разгорячила ее. Мошкара кружила над лужайкой, то сбиваясь в тучи, то рассыпаясь гудящими точками. Рут отерла пот со лба и перехватила туфли в другую руку.
Церковный колокол отбил час.
Спустя мгновение, в тишине, сменившей звон колоколов, она вдруг поняла, что все звуки в столовой внезапно стихли.
Она остановилась. Нет, не показалось – в самом деле, ни звука: ни ножа по тарелке, ни позвякивания бокалов, ни голосов. Тишина накрыла ее плотным капюшоном.