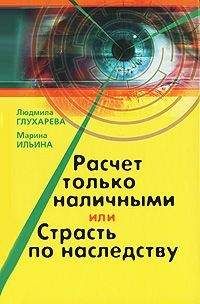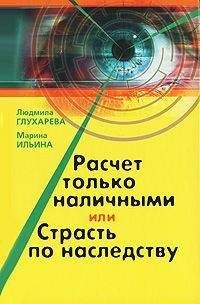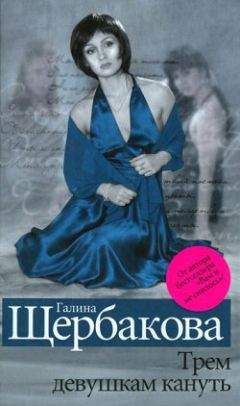Ева Модиньяни - Женщины его жизни
– Спасибо, Бруно, – еле выговорил Филип, бледнея от избытка чувств.
Так благодаря его сыну фамильная драгоценность Брайанов вернулась в русло священной семейной традиции.
УСПЕХ
ЛЮСИЛЛА
Светлая улыбка Люсиллы рождала в душе у Бруно неизъяснимое и неведомое ему ранее томление, будоражила кровь и заставляла беспрестанно краснеть. Из скрытых динамиков доносилась наивная мелодия «Романтики», признанной песней года на фестивале в Сан-Ремо. На постели лежал журнал с фотографией английской принцессы Маргарет и Армстронга Джонса, заснятых во время свадебного путешествия после состоявшегося в мае венчания.
Люсилла кокетливо взглянула на него. Она была похожа на Брижит Бардо, знала об этом и гордилась сходством.
– Ты стал совсем взрослым, – заметила она с восхищением. – Настоящий мужчина.
Бруно опустил глаза, Люсилла, подтянувшись, села в постели и ласково погладила его по щеке. Пальцы у нее были длинные, точеные, все в кольцах.
– Да, синьора, – пробормотал он, сгорая от стыда.
Он и вправду отличался яркой и мужественной красотой, смягченной очарованием только что распустившейся юности.
– Мы уже сто лет не виделись! – воскликнула Люсилла.
– Всего три месяца, – уточнил Бруно. – С конца учебного года.
За два года посещения гимназии Бруно привык видеть Люсиллу чуть ли не каждый день: он был лучшим другом ее сына Маттео.
Маттео был блондином, его прозвали ангелочком за отрешенный, мечтательный взгляд и ореол светлых кудрей вокруг головы. Мальчики подружились с первого класса средней школы и привыкли вместе готовить уроки.
Бруно часто навещал друга. Кало заезжал за ними в школу и отвозил на улицу Спига, к дому Маттео. Бруно оставался с ним до ужина, и тогда Кало, перейдя на другую сторону улицы Манзони и пройдя по улице Спига до углового дома, одной стороной выходившего на проспект Венеции, заходил за ним, чтобы проводить своего крестника домой.
Принцесса Изгро, с годами становившаяся все более нетерпимой, не одобряла этого знакомства, Кало же, напротив, считал, что общество матери Маттео, такой молодой, веселой и беззаботной, пойдет мальчику только на пользу. Люсилла и впрямь была весела и скрашивала жизнь Бруно, не знакомого ни с одной женщиной, кроме крестной. Кало виделся с ней дважды в день: когда привозил мальчиков из школы и когда возвращался, чтобы проводить Бруно домой.
– Она, правда, немного чудная, – добродушно объяснял он принцессе, – но все же славная.
– Что значит «чудная»? – подозрительно спросила принцесса Изгро.
– Она говорит, что Бруно и Маттео напоминают Эвриала и Ниса [72], что они могли бы стать Кастором и Поллуксом [73]. Говорит, что это герои мифов. На днях она, представьте, обнимает их обоих и спрашивает меня: «Не кажется ли вам, синьор Коста, что эти мальчики образуют прелестную скульптурную группу?» Представляете, принцесса, Бруно у нас такой строптивый, а тут покраснел как рак. Я, чтоб не спорить, говорю, да, мол, действительно, они парни хоть куда. А она: «Но какой восхитительный контраст! Бруно такой смуглый, а Маттео светлый. Мои подруги просто пожирают их глазами! Такие похожие и такие разные!»
– Меня это ничуть не забавляет, – угрюмо отрезала принцесса, – равно как и твои попытки подражать эстрадным комикам. Что с тобой, Кало? – воскликнула она с упреком. – Ты становишься сплетником, прямо как деревенская кумушка!
Великан так хорошо и давно знал принцессу, что ему и в голову не пришло обижаться.
– А чего вы хотите? – спросил он, покачав начинающей седеть светлой головой. – Вот уже много лет я живу среди детей и женщин. Поневоле станешь деревенской кумушкой.
По окончании пятого класса гимназии, в период экзаменационной сессии, два друга стали буквально неразлучными, занимаясь дома то у одного, то у другого. Их кормили и баловали по очереди принцесса Изгро и Люсилла.
Изредка Бруно видел отца Маттео, инженера Альберти, концессионера одной автомобильной фабрики.
Для мальчиков у него всегда находились одни и те же стандартные пожелания: «За учебу, ребята. Будьте умниками. Я начинал с нуля, а у вас есть все возможности хорошо учиться».
Он был высокий и тощий, аскетическое лицо и огромный нос делали его похожим на Савонаролу [74]. Служба была для него религией, а представительство его фирмы – священным храмом, где он проводил больше времени, чем дома. На себя самого он смотрел как на одного из жрецов «экономического чуда» и принес все свои чувства и привязанности в жертву на алтарь успеха. Люсилла, которая была чуть ли не на двадцать лет моложе его, казалась ему чем-то вроде представительского лимузина, средством продвижения по службе, символом завоеванного престижа наряду с виллой в Брианце, особняком в Париже и шале в Сен-Морисе. По торжественным случаям он вывозил ее в свет на «Роллс-Ройсе», увешанную драгоценностями, и демонстрировал, как товары в витрине.
Будучи особой легкомысленной и поверхностной, красавица Люсилла охотно и непринужденно играла роль, навязанную ей мужем. Ее жизнь была бесконечной чередой показов мод, примерок новых нарядов, визитов в салон красоты «Элизабет Арден» и благотворительных посещений одного весьма бойкого аббата, которого чаще, чем у алтаря, видели в светских гостиных, где он развлекал десяток таких же, как она, дам, пересказывая в каждом новом доме сплетни, услышанные в предыдущем. Но истинной страстью Люсиллы была молитва. В суматохе переездов из Акапулько на Рождество в Сен-Морис на Новый год, между торжественными утренниками в честь открытия охотничьего сезона и светскими вечеринками она находила время часами простаивать, преклонив колени, на молельной скамеечке XVII века, занимавшей самое почетное место в обстановке ее спальни. Она молилась, набожно сложив руки и устремив исступленный взгляд на великолепное деревянное распятие, вырезанное мастером из Клаузена. Только когда от неподвижности и погруженности в транс наступало головокружение, она звонком вызывала служанку, чтобы та помогла ей подняться с колен, и, рухнув в постель, засыпала как убитая.
Пребывая в убеждении, что у нее сложились особые доверительные отношения со всевышним, Люсилла разработала для себя удобный распорядок богослужения, где было место и мистическим экстазам, и великосветскому адюльтеру. За ней тянулась слава разрушительницы самых солидных репутаций.
Она включала и выключала свою набожность, как воду в ванной, по собственному усмотрению. Как бы то ни было, молитва освобождала Люсиллу от малейшего ощущения вины. В тридцать шесть лет она была красива, соблазнительна и отличалась железным здоровьем, однако, легко прощая себе внешнюю привлекательность, пользуясь и наслаждаясь ею, почему-то решила, что быть здоровой не пристало набожной даме, посвятившей себя благотворительности.