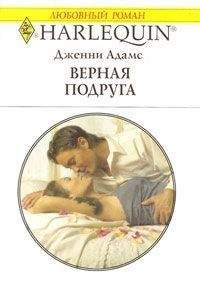Гипноз для декана (СИ) - Беренготт Лючия фон
Иначе объяснить, почему декан в принципе стал слушать меня, я не могла — ибо несла я такую лютую чушь, что у самой уши в трубочку заворачивались.
— Около недели назад я проходила случайно мимо кабинета Березина — помните, молодой такой доцент с Евразийского Института… и вдруг услышала, как внутри кто-то очень громко скандалит… кричат, ругаются… Остановилась послушать — подумала, вдруг кому-нибудь придется помощь вызывать… И тут слышу женским голосом — «да как вы смеете мне такое предлагать, Антон Юрьевич! Я на вас жаловаться буду декану!»
— Декану? — насторожился Игнатьев, стрельнув в меня взглядом. — Мне?
Э нет… так не пойдет… Поняв, что допустила оплошность, я покачала головой. Не надо, чтобы он продолжал быть центром истории и внимательно прислушивался к тому, что я рассказываю. История — это способ завлечь его изначально, заставить слушать и смотреть на часы-подвеску. Но постепенно надо сделать так, чтобы он заскучал — монотонно и долго рассказывать ему что-то, чтобы ввести в транс. И вот тогда, в состоянии измененного сознания, вновь зацепить его, но уже на более глубоком уровне.
— Нет, не вам. Кафедра Евразии же к другому факультету относится. Там, кажется, профессор Володина — деканом. Но не в этом суть… В общем, эта женщина, что была в кабинете с Березиным, грозилась за что-то на него пожаловаться… а он ей в ответ — не можете вы на меня пожаловаться, я вам не позволю… А она ему — у меня на вас управа найдется! А он такой — что ж вы так нервничаете, девушка… у меня от вас уже голова разболелась… И тут дверь открывается… я еле успела спрятаться…
Продолжая нести полную околесицу, я почти не следила за тем, что говорю, делая упор на том, как говорю — ни на секунду не меняя ни тона, ни силы голоса. Мягко стелила словами и шелестела голосом, чуть заметно улыбаясь загадочной улыбкой Моны Лизы и стараясь не двигаться, разве что покачивая на пальцах подвеску с часами. Наверное, так вводят в транс прихожан в некоторых религиях — монотонной литанией нескончаемых молитв и благословений, суть которых уже давно никому непонятна…
— А часы… часы-то причем? — остановил меня всё ещё не потерявший способность думать декан, не отрывая, однако, взгляда от покачивающегося в моих руках маятника и начиная еле заметно покачиваться ему в такт.
— Сейчас дойдем до них, — самым мягким голосом пообещала я. — Вы пока смотрите на них, Андрей Федорович — это важно. Может, узнаете…
— Я… должен их узнать?
— Конечно должны, — я улыбнулась, понимая, что почти не вру. И узнать, и признать, как волшебную палочку в руках своего повелителя. Потому что я уже видела, что мало по малу магия гипнотического голоса действует — медленно, но верно оплетая мужчину, обволакивая его руки и ноги, замедляя дыхание, делая его вялым и не способным соображать.
Стараясь не прыгать от восторга, заметила в глазах декана знакомый туман, отметила медлительность его речи… О да, Андрей Федорович… если ничего не помешает… вы крепко и надолго в моих руках.
Сигналом к тому, что можно начать внушение послужили его пальцы, которые в какой-то момент расплелись, позволяя рукам упасть по обе стороны от бедер. При всем при этом глаза декан не закрыл — лишь прикрыл наполовину, и из-под век его я видела, как зрачки его двигаются из стороны в сторону, следя за часами, словно примагниченные к ним.
Медленно-медленно я перестала их раскачивать, давая остановиться… и зрачки введенного в транс мужчины тоже постепенно остановились. Взгляд декана замер, замерзнув в какой-то точке в пространстве между нами.
Я замолчала на полуслове и широко улыбнулась — Андрей Федорович Игнатьев, звезда фандрейзингов и гроза всех бюджетников, сидел передо мной в несомненном гипнотическом трансе.
— Андрей Федорович… — уже другим голосом позвала я — тем самым, которым делала внушение вчера. — Вы меня слышите? Отвечайте, пожалуйста.
— Конечно, слышу… Сафронова… — с задержкой ответил он, еле шевеля губами. — У меня… отличный слух… и память, если ты… не заметила…
Я ухмыльнулась и покачала головой — даже в трансе пытается всё контролировать и язвить!
— Это здорово… — похвалила его голосом доброй учительницы. — Вы, наверное, хорошо помните, как я уронила ваш трофей на той вечеринке, не правда ли?
— Конечно, помню…
Я кивнула, ожидая такого ответа. И помотала головой, хоть он меня и не видел.
— Этого не было, Андрей Федорович. Вы ошиблись — я никогда не роняла ваш трофей. Он… сам упал с пьедестала, потому что был плохо закреплен. Вы поняли меня? Ничего этого не было — вы подошли и нашли трофей уже лежащим на полу. Никого рядом с ним не было.
К моему беспокойству, Игнатьев молчал. Брови его слегка приподнялись, будто он удивлялся чему-то в своем трансе, лицо заметно покраснело — явно от мозговых усилий.
— Но… тогда… — медленно произнес он, когда я уже начала беспокоиться, — если мой трофей упал сам, как… я смог увидеть твою грудь?
Комнату огласил громкий, металлический стук — это у меня из рук выпали часы, которые я перестала вертеть и машинально крутила в пальцах. От изумления у меня из горла вырвалось нечто среднее между кашлем и задушенным хрипом.
— Что?! Какую грудь?! — пролепетала я, невольно цепляясь взглядом за его грудь, виднеющуюся из расстегнутой рубашки.
— Шикарную… — ответил он всё тем же ровным голосом, но с явными мечтательными нотками. — Такую, как я люблю… Идеального размера… округлую… наверное, стоячую и с острыми сосками, когда возбуждена…
Узел между бедер снова стянулся, заставляя крепко сжать ноги и прикусить губу.
— А как вы ее… увидели… мою грудь? — совладав с собой, спросила, стараясь не дышать слишком часто.
— Не знаю… — снова нахмурившись, ответил декан. — Где-то увидел… не помню… ничего не помню…
Черт, он ведь уже забыл о случае с трофеем! Эх, рано я ему это внушила — надо было пораспрашивать подробнее сначала! Наверняка, у меня что-нибудь задралось, когда я падала, и грудь вылезла.
Но тогда получается… получается… Я резко втянула воздух, сраженная догадкой. Неужели…
Нет, не может этого быть!
Нет, Сафронова, ты не будешь его спрашивать об этом! Не будешь, не будешь, не будешь! Заткнись, тебе говорят!
— А что бы вы сделали с моей грудью, если бы увидели ее сейчас? — на одном дыхании выпалила я и зажмурилась от страха.
Он ответил немедленно, будто только и ждал возможности сказать это вслух.
— Я бы обнял ее всей ладонью… и так держал, пока ты не заскулишь от нетерпения. А потом наклонился бы к ней и… подул. Ты, наверное, чувствительная. Сошла бы с ума от возбуждения. Стала бы умолять меня взять сосок губами. Но я бы не стал. Помучил бы тебя, как следует — минут пятнадцать, лаская всё что угодно, кроме того места, в котором тебе хочется. И только потом бы сдался и лизнул твой сосок — в самый кончик, очень-очень легко… Думаю, ты бы сразу кончила.
Тот факт, что всё это было сказано ровным, металлическим голосом, меня не спасло. Острым, почти болезненным возбуждением прошило вдоль позвоночника, заставляя тело выгнуться и вырывая из горла стон. Запрокинув голову, несколько минут я не могла ничего делать, кроме как смотреть в потолок и дышать — прерывисто, часто, словно только что минут прыгала через скакалку. До оргазма, слава богу, не дошло — я смогла совладать с собой и остановить горячую пульсацию в бедрах перед самым пиком, в самую последнюю секунду…
Чёрт бы его побрал, этого… декана… чёрт бы его… побрал… — только это и вертелось в голове, наподобие скороговорки, только медленно. Чёрт бы его побрал…
Наконец, мысли кое-как упорядочились и разнообразились. Вот оно, значит, что… Значит, у него от меня тоже… «дым из ушей»? И вся эта ненависть… от любви?! Ну, в смысле, от той любви, которая у людей между ног.
Опустив голову, я долго и тяжело выдохнула.
И что теперь делать? Что, чёрт возьми, со всем этим бардаком делать!
Ты знаешь что! — строго, голосом моей тёти — шестидесятилетней старой девы бухгалтерши — ответил мой внутренний голос. Ты должна немедленно, без всякого промедления внушить ему, что он тебя НЕ ХОЧЕТ. И что грудь твою он никогда не видел. И, вообще, испытывает к тебе исключительно уважение и платоническую приязнь — как к весьма перспективной, талантливой и достойной всяческого поощрения девушке из самого высшего общества.