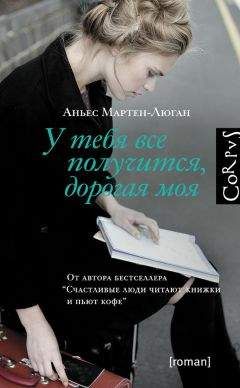Дом на берегу океана, где мы были счастливы - Мартен-Люган Аньес
Отец меня так не воспринимал.
Для него я был наследником.
Я был обязан учиться. Идти по его стопам было требованием, которое не обсуждалось. Я совершенно не помню, когда мои руки впервые легли на клавиши. Ноги тогда были еще слишком коротки и не дотягивались до педалей. Но я до сих пор не забыл, как отец мне рассказывал, что посадил меня к себе на колени, объявив, что я, как Моцарт, должен начинать играть на фортепиано.
Моцарт, черт возьми, ни больше ни меньше.
Был ли он неправ? Или прав? Совершенно бесполезный вопрос.
71
Откуда мне знать, кем бы я стал без игры на рояле? Любила бы мать меня больше, будь я меньше похож на отца? Не будь я точной копией этого человека, который был старше и соблазнил ее, которого она полюбила и кому подарила сына. Копией человека, который, между прочим, замуровал ее в мире, где она так и не нашла своего места. Где она так и не сумела выразить себя. Моему отцу недоставало на нее времени. Оно было строго распределено: его репетиции, мои репетиции, контроль моих частных уроков, его концерты, его поездки, его любовницы, довольствовавшиеся парой драгоценностей и, в отличие от матери, не достававшие его каждую минуту. Я мог простить этой женщине, давшей мне жизнь, некоторую излишнюю агрессивность. Она была слишком молода, чтобы принять такую участь, согласиться с тем, что ее к ней приговорили. Она заслуживала лучшего. Кое-чего более существенного, чем внешний фасад, предъявляемый миру. Моя мать была отчаянно одинока, она так и не добилась уважения в среде, в которую ее ввел отец. Полагаю, он посчитал, что она с этим справится. Он видел ее ошеломительную красоту и исходящее от нее сияние, но не замечал, что это сияние затянуто пеленой. Он проглядел ее патологическую уязвимость.
А потом уже было слишком поздно. Появился я.
Любовь очень близка к ненависти.
Я пришел к этому заключению, когда отец умер. Мать стремилась испачкать воспоминания о нем, похоронить его целиком, а не только тело, но при этом в отчаянии оплакивала его. Она утратила свой маяк, свою путеводную звезду, которую ненавидела, но это не мешало маяку оставаться маяком. А рядом с ней был я, привязанный к роялю человека, которым безоговорочно восхищался, чьим полным двойником был и чью смерть болезненно переживал. Однажды она воспользовалась тем, что я отвлекся, и набросилась на рояль, чтобы осквернить его. Мой тонкий слух различил с другого конца дома жалобный призыв страдающих струн. Они звали меня на помощь, но я пришел слишком поздно и не смог их спасти, они присоединились к отцу, а мать колотила по клавиатуре всем, что попадалось под руку. С силой, которой я в ней не подозревал, она выхватила из камина дровницу и орудовала ею как монтировкой, круша деревянные части инструмента. Она наслаждалась видом зияющих дыр и не поддающихся починке проломов, которые сама же создавала. Никогда не забуду, как разлетались и жалко разбивались об пол клавиши из слоновой кости. Она топтала партитуры отца и плевала на них, выкрикивая гадости. Уничтожала все, что могло бы питать воспоминания о нем, и при этом хохотала как безумная.
Я не мог выйти из ступора, в который меня ввергло двойное бедствие, а мать злоупотребила моей слабостью, чтобы забрать меня из дома, где я вырос, заставить покинуть место моего рождения и тех немногочисленных друзей, которых я сумел завести. Так я лишился единственных ориентиров, на которые мог полагаться. Она купила на деньги отца этот дом, затерянный на вершине скалы в Бретани, и мы, мать и сын, стали жить там в нездоровом одиночестве. Эта дрянь, которую я любил против собственной воли – как-никак она была моей матерью, – полагала, что у нее получится запретить мне играть. Фортепиано было единственным, что напоминало мне о том, что какое-то время назад со мной рядом был отец. Я сводил мать с ума, часто исчезая. Нет, я не сбегал, а просто прятался за утесом и наблюдал за ней в этом доме, который она выбрала в качестве могилы для себя и для меня. Она дожидалась моего возвращения, напивалась, громко звала меня, выкрикивала свою извращенную любовь к сыну. Мать приводила в ужас мысль, что она может остаться одна. Меня одиночество успокаивало, придавало мне уверенности, ее же оно разрывало на части. Я добился своего. Если она не хочет, чтобы я ее бросил, мне нужен рояль. Она сдалась.
Мне было необходимо воплотить память об отце, чтобы попытаться самому родиться на свет.
– Почему ты покинул этот дом, после того как твоя мать умерла? – спросил меня Натан.
Сын мой, для тебя останется тайной, что причина этого в том, что меня покинула она. Та, кто вернул мне жизнь и кого я утратил.
– Мне надо было разорвать связи с этим местом.
Увидев выражение моего лица, Натан должен был прийти к недвусмысленному выводу: он услышит от меня только то, чем я соглашусь поделиться.
– Потом ты спросишь, зачем я снова купил его четыре года назад? Мне понадобилось вернуться сюда по причинам, касающимся только меня.
Она, эта женщина.
Я терпеливо ждал уже четыре года. Натан не знал и никогда не узнает, что мое возвращение подогревала отчаянная надежда вновь обрести ее. Надежда, что она вернется ко мне. Что она наконец-то подарит мне свое прощение. Однако пришло время признать очевидное.
Мне наконец-то оставалось только совершить прыжок.
Натан встал, взял наши стаканы. Погрузившись в размышления, я наблюдал за тем, как он снова их наполняет. Он вернулся, протянул мне стакан, перекинул пачку сигарет и плюхнулся на свое место, впившись в меня взглядом своих таких же, как у меня, льдисто-голубых глаз.
– Мне хорошо в этом доме с тобой, папа.
Глава двенадцатая
В другом месте
Лиза – единственная, кто понятия не имел о той, кем я была. Я не сомневалась, что однажды Васко или кто-то из сестер расскажет ей все. Вместо меня.
Почему я не подумала об этом раньше?
Ответ предельно прост.
Из страха.
Готова ли я пережить все заново ради Лизы? Мне казалось, что нет. А иначе зачем бы я избавилась от этой части себя? Опять погрузиться в те времена, в глубоко запрятанные воспоминания, еще раз пережить все счастье и все муки, из которых они состоят? Я вычеркнула прошлое из своей памяти много лет назад.
Я даже начала сомневаться, знакома ли мне та молодая женщина, которой я была.
Возможно, я боялась новой встречи с ней.
Но разве она не всегда таилась в глубине моей души, подстерегая момент слабости, выискивая щель, в которую сможет просочиться? Рискну ли я на последнем пороге жизни разочаровать дочь, не имея при этом ни малейшего шанса вымолить ее прощение в будущем? Или испугаюсь того, что ей представят искаженное вйдение произошедшего и той, кем я была и кем должна бы быть?
Лиза заслуживала того, чтобы услышать историю полностью. Точнее, тот ее фрагмент, который завершился до Лизиного появления на свет. До ее отца. Долгое время я отказывалась признавать, что Лиза не имеет ни малейшего представления о том, что я делала до Васко. Я рассказывала ей о себе так, как если бы родилась только после встречи с ним. Он, конечно, подарил мне невероятную судьбу. Сокрушил стены, позволил мне выразить себя, стать другой, превратив эту другую в мое теперешнее “я”. Но до него было еще двадцать пять лет, о которых Лизе было известно ничтожно мало, ровно столько, сколько необходимо, чтобы она не задавала себе – и мне — лишних вопросов. Она была в курсе прошлого своих бабушки и дедушки, для нее была привычной атмосфера тесной близости между мной и моими сестрами, но она не имела ни малейшего представления о той женщине, что позднее стала ее матерью. Ей были незнакомы мои мечты и ожидания, мои надежды и стремления.