Зоя Гаррисон - Большое кино
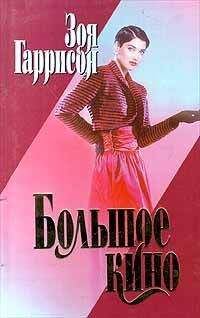
Обзор книги Зоя Гаррисон - Большое кино
Зоя Гаррисон
Большое кино
ЗВАР, 1938 ГОД
После новогодних тостов не прошло и часа, а она уже тащила его по залитой лунным светом дорожке. Потом она распахнула дверь и втянула его внутрь гостевого дома.
Сквозь тонкий шелк ее смуглое тело просвечивало так, что от неожиданности у него приоткрылся рот.
— Меня никто не видел. — Он не мог оторвать глаз от ее темных сосков.
— Хорошо. — Она улыбнулась и провела ладонями по его щекам. — Бедненький! Присядь.
Рядом со взбитыми подушками красовался большой бронзовый кальян, и это его немного отрезвило.
— Мать не разрешает мне курить гашиш, говорит, от него становятся бесплодными.
— Твоя мать слишком долго жила в пустыне. — Она усадила его на подушки. — Бери! — Как только у него во рту оказался кончик трубки, она поднесла к кальяну свечу, предварительно зажженную от огня маленькой чугунной печки. — Сначала вдох, потом выдох… Вот так. Это тебя успокоит. Ты слишком взволнован для урока.
Он принялся глубоко дышать. Что-то забулькало, во рту стало горько. Он посмотрел на нее и вопросительно пожал плечами.
— Подожди, скоро распробуешь.
Прошла вечность, прежде чем он почувствовал на своем плече ее прохладную руку. Она принесла кувшин с водой и губку.
Он не стал сопротивляться, когда она сняла с него ботинки, брюки, носки и стянула через голову рубашку.
— А ты сильная!..
Она принялась обтирать его какой-то густой жидкостью с запахом алоэ.
— Когда мне было столько, сколько тебе, я жила в Париже.
Твой отец определил меня учиться балету к одному из знаменитейших преподавателей Европы, который был со мной очень строг и часто бранил ни за что. Я молчала, потому что знала: когда закончится урок и разойдутся другие ученицы, он загладит свою вину передо мной.
Сначала он заставлял меня снимать сорочку и трико. Он твердил, что только голую балерину можно научить правильно вставать в позицию. Я делала приседания и все прочие упражнения у балетной перекладины, после чего закидывала на нее одну ногу. Он размещался у меня за спиной и, глядя в зеркале мне в глаза, учил задирать ногу как можно выше, чтобы все мое нутро представало в зеркале моим и его глазам. Тогда он овладевал мной сзади.
Пока он этим занимался, мне полагалось оставаться в неподвижной балетной позиции. Танцором становился он. Постепенно меня охватывало нестерпимое удовольствие. Он пускал в ход еще и руки и шепотом спрашивал, нравится ли мне все это. Глядя в глаза, он заставлял меня комментировать каждое его движение, каждый рывок. В конце концов я заливалась краской и кричала собственному отражению в зеркале, что мне очень, очень, очень хорошо!
Финалом ее рассказа стало то, что он кончил у нее на глазах и тут же попросил за это прощения.
— Глупости, — ответила она, вытирая губкой его живот. — Я сделала это намеренно.
Получив новую взбадривающую порцию гашиша, он благодарно откинулся на подушки. Она покинула его и вернулась через несколько минут с двумя половинками персика в руке.
— Спасибо, — удивленно проговорил он, — но я не слишком…
— Конечно. Дело не в этом. Ешь! — Она запихнула одну половинку персика ему в рот так, что он едва не подавился. — И не забывай дышать, не то задохнешься.
Внезапно что-то надвинулось на него, и ему показалось, что он стоит, задрав голову, под Эйфелевой башней. И тут он сообразил, куда она подевала вторую половинку персика.
— Доедай! — раздалось сверху.
Он вцепился ей в бедра и принялся за вторую половинку. По подбородку полился сок, и персик моментально исчез, но влага не иссякала. Он усердно трудился, чувствуя, как она напрягается, как бьется над ним в судорогах, подчиняясь могучей внутренней силе. Последняя, самая мучительная судорога — и она обмякла.
Он опустил ее на подушки.
Придя в себя, она снова заговорила:
— Это может происходить еще и еще. Работай язычком, мой златокудрый мальчик, и не останавливайся, только не останавливайся. Продолжай!
Он с готовностью подчинился. Когда язык одеревенел и едва не вываливался у него изо рта, он стал молотить ее подбородком, внимая доносящимся откуда-то издалека наставлениям:
— Поласковее, дружок, поласковее. Щетина не обязательно должна царапать, она тоже может дарить радость!
Наконец шея отказалась повиноваться и он пустил в ход нос, а к тому времени отдохнул главный инструмент — язык. Все это время его пальцы неустанно исследовали ее изнутри, словно пытались нащупать во влажной тьме загадочные письмена. Иногда тьма содрогалась, и она принималась биться над ним как одержимая, но он снова подчинял себе ее скользкое тело, получая в ответ хриплые похвалы.
Потом они, не сговариваясь, поменялись ролями: он превратился в наставника, она — в покорную ученицу. Он поднял ее, перенес на ложе и лег, насадив ее на свое копье, как на вертел.
Она обхватила его ногами и позволила ему опускать и приподнимать ее, словно куклу, предназначенную единственно для его услады. Когда скомканные шелка осветила заря, он встал, а она осталась лежать распластанной, как тряпичная кукла, брошенная кукловодом.
Следующие две недели он, как щенок, следовал за ней по пятам. Меньше всего ему хотелось возвращаться в Америку и браться за учебу.
— Скоро начнется война. Отец говорит, что я не вернусь сюда, пока она не кончится. Это может продлиться годы!
— Тем лучше.
— Ноя должен остаться здесь! Мое место — рядом с тобой. — Поддев носком ботинка песок, он обиженно покосился на море, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы.
Негромко засмеявшись, она взъерошила ему волосы:
— Ты чудесный юноша, в Америке у тебя не будет отбоя от девчонок.
— Мне не нужны американские девчонки. Я хочу тебя!
— Это ты сейчас так говоришь. Придет время, и ты поймешь, что я была права.
В день отплытия он явился к ней:
— Ты будешь мне писать?
— Только если напишешь первым. И не забывай рассказывать про твоих американских подружек.
— Подожди, вот разбогатею, вернусь сюда и построю дворец для твоих скульптур.
— Зачем он, дворец! — ответила она со смехом. — Все, что мне требуется, — это покой, и я обрету его, когда ты от меня отвяжешься. Поторопись, не то опоздаешь на корабль.



