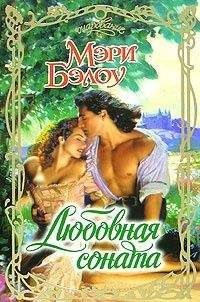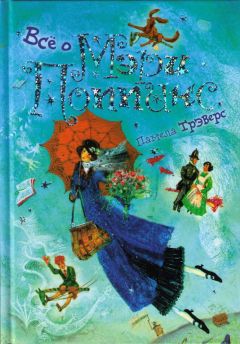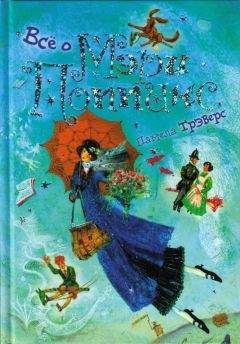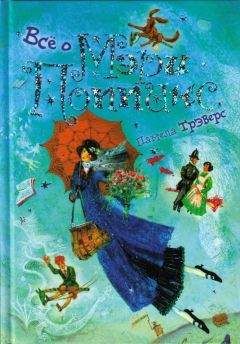Ирина Верехтина - Издержки воспитания

Обзор книги Ирина Верехтина - Издержки воспитания
Ирина Верехтина
ИЗДЕРЖКИ ВОСПИТАНИЯ
ЧАСТЬ 1. РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ
Конец безделью
В жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает о ней думать. О жизни, то есть. Как правило, о жизни мы задумываемся, когда она припечёт: кто в пятнадцать, кто в пятьдесят, кто-то после семидесяти.
Маринэ начала думать о жизни лет примерно с трёх. Примерно – потому что в секцию художественной гимнастики её отвели (отвезли на санках) за четыре месяца до дня рождения, рассудив, что девочке хватит бездельничать. Так что в три года она уже знала, почем фунт лиха.
Особых талантов у Маринэ не обнаружилось, но родители по этому поводу, как сейчас говорят, не парились, и воспитывали дочь на редкость разносторонне: гимнастика с трёх лет, фигурное катание с четырёх, с пяти к конькам добавили плавание, с семи плавание заменили иностранным языком (каток с половины седьмого, школа с половины девятого, очень удобно. А в бассейн возить – неудобно, потому что далеко, а француженка, настоящая парижанка, живет двумя этажами ниже).
Семилетняя Маринэ, которой пришлось по душе плавание, пыталась возражать, но мудрые родители, которые желали своему ребёнку добра, приняли единственно верное решение: умеет плавать, умеет прыгать с трехметровой вышки, так зачем зря тратить время и деньги? Пусть французский учит, деньги уйдут те же. Справится, уроков в первом классе немного.
Жить стало лучше, жить стало веселей: с утра коньки (ещё не рассвело, но метро уже открыто), после коньков школа, после школы спортзал и коньки, после коньков обед (или это ужин?), после обеда французский «с носителем языка», потом заучивать французские слова, после ужина («Опять творог, не могу, он в меня не лезет!» – «Марина! На ужин творог, и ты об этом знаешь. Мне надоели твои капризы. Что значит – не могу? Садись и ешь!»), после ужина французский, читать и переводить: с французского на русский, с русского на французский (мадам Мари много задаёт, могла бы поменьше), после французского уроки, после уроков полчаса гимнастики «и чтобы в девять была в постели».
К половине девятого справиться с уроками не удавалось, «будешь сидеть пока не сделаешь». Наконец с уроками покончено, гимнастика сделана, портфель на завтра сложен. Маринэ неслышно входила в гостиную, где был включен телевизор, и присаживалась на краешек стула, подальше от родителей, чтобы не погнали спать. Мать молчала (пришла, значит, все уроки сделаны, пусть смотрит). Но отец, взглянув на часы, качал головой:
– Маринэ, сколько раз тебе повторять, что уроки надо делать, а не спать над ними, – строгим голосом говорил отец, и Маринэ чувствовала себя виноватой. – Мне с ремнём над тобой стоять, чтобы ты занималась? Так сейчас достану, и будешь учиться на одни пятёрки. Не хочешь? Тогда занимайся как следует.
– Иди спать, дочка, ты, наверное, устала, а тебе вставать в половине шестого, не забыла? – «меняла тему» мать.
– Не забыла. Не устала. Я чуть-чуть посмотрю.
– Не забыла, тогда ложись! В воскресенье посмотришь. В твоём возрасте нужно спать не меньше девяти часов. Иначе организм не будет восстанавливаться, и нахватаешь троек. За тройки… сама знаешь.
Колешник
Троек Маринэ почти не получала. Но однажды, когда училась в пятом классе, принесла домой «единицу» по труду и, сверкнув на отца злыми глазами, швырнула на стол дневник и залилась слезами. Отец не знал, чем её утешить, и ругал учительницу труда последними словами. Маринина мама, которая не знала грузинского в таком расширении, против отцовских неслабых прилагательных не возражала и стояла, что называется, у дочери над душой с рюмкой пустырниковой настойки, а Маринэ плакала от обиды и оттого, что ничего нельзя сделать, ничем не смыть позор «колышницы».
Колешник (как выразился отец) ей «вкатили» за то, что не принесла на урок труда яблоки для консервирования («Тема сегодняшнего урока – консервирование яблок. Яблоки все принесли?») А на дворе декабрь, яблоки сами знаете почём. Маринэ забыла о яблоках напрочь, дома были только вяленые, они вкуснее свежих и без всякого консервирования лежат в полотняном мешке до весны, сохраняя вкус.
Об уроке консервирования Маринэ забыла через пять минут, некогда было помнить, каждый день заполнен до предела: гимнастика, каток, школа, каток, французский, перевод «от сих до сих», ненавистный творог на ужин, ненавистные уроки на завтра, ненавистная гимнастика…
– Ма-аа, можно гимнастику не делать, я утром делала… И на тренировке.
– Можно не делать. Но можно и сделать. Полчаса – и пойдёшь спать. А то к стулу прирастёшь, с уроками этими… Мариночка, девочка, не упрямься, что ещё за капризы… Спать хочешь? Так кто же тебе не даёт? Ты с французским битый час сидела, а могла быстрее сделать, и с уроками не тянуть. Выучила хоть? Смотри, за тройки отец… по головке не погладит. И не надо делать такое лицо, следи за своей мимикой. После гимнастики сразу в постель.
Мариночка, доченька… Гимнастика обязательна, и ты прекрасно об этом знаешь. Хочешь, я с тобой посижу, а ты мне покажешь, что умеешь делать… Марина! Делай как следует, что это за «мостик» такой? А говоришь, умеешь… Марина! Как следует, это значит держать две минуты: колечко… мостик… шпагат… ласточку… и кораблик! Держи-держи-держи… Умница моя! Наша с отцом гордость. И ещё раз, всё сначала… Держать, держать, не опускать! Молодец!
…И последний раз, соберись и сделай всё идеально. Держишь две минуты – кольцо… мостик… шпагат… ласточку… Кораблик подержи, сколько сможешь. Молодец! Держать кораблик, держать-держать-держать… Ты что, умерла?! Ещё раз!»
«Последний раз» – это уже «на автопилоте» и с закрытыми глазами. «Ещё раз» – это когда «уже умерла». Потом душ, потом спать (во сне – каток), где уж тут помнить о каких-то яблоках. Маринэ пришла на урок с пустыми руками. Ей и ещё двум девочкам, которым родители не дали денег на покупку дорогих (по зимней цене) яблок, учительница, полнясь праведным гневом, нарисовала в дневниках большие жирные единицы и выгнала из класса как не подготовившихся к уроку.
«Грэми»
Маринэ смотрела на жирно-фиолетовый «колешник» и не верила своим глазам. У неё и троек почти не было, а тут – такое унижение. Такой позор. Она теперь даже не двоечница, она колышница. Или колешница. В голове стучали молоточки: «эртиани, эртиани, единица, единица…»
Чтобы не думать о своём несчастье, Маринэ принялась считать до десяти: «Эрти, ори, сами, отхи, хути, эквси, швиди, рва, цхра, ати», но легче не стало, и она продолжала сквозь слёзы: «тэртмэти, тормэти…» (одиннадцать, двенадцать…). Плелась нога за ногу, всхлипывая, и утирая слёзы кулаком, как когда-то на гимнастике, когда она падала и больно ушибалась (поднимали на ноги и заставляли заниматься). Школа была не близко, пока дошла, до атаси (тысяча) досчитала. Не помогло.
Домой она пришла расстроенная и злая. Хлопнула дверью так, что в серванте зазвенели стёкла. Швырнула отцу дневник чуть не в лицо, уселась на пол и заплакала. Гиоргос потребовал от дочери объяснений, которые и были изложены – предельно чётко, сквозь всхлипы и судорожные вздохи. В квартире воцарилась нехорошая тишина. Маринэ сидела на полу в слезах. Мать дрожащими руками капала в стакан с водой капли пустырника. Отец крякнул, открыл бар и глубокомысленно в него уставился…
На мать с её пустырником («Пей и прекрати лить слёзы. Нашла, понимаешь, из-за чего плакать…») Маринэ посмотрела как на пустое место и выпила папин марочный «Греми» (грузинский коньяк, очень мягкий и вкусный, выдержка спиртов не менее десяти лет), отметив попутно, что отец не похож сам на себя (всегда был краток, тон приказной, возражения не предусмотрены, а сегодня молчит. Может, на работе что-нибудь случилось? Хотя сегодня суббота, и в их семье у всех, кроме Маринэ, выходной).
Отец заставил её подняться и, обхватив за плечи, увёл на кухню. Усадил на табурет, взял за длинные косы и провёл по мокрым щекам пушистыми кончиками. Маринэ смотрела непонимающими глазами, не отвечая на ласку. «А раньше всегда смеялась» – горестно подумал Гиоргос и нехотя выпустил косы из рук, в который раз удивившись их тяжести («И как она их носит – тяжелые такие! Молчит, не жалуется – знает, что отрезать не позволю. Пусть только попробует!»)
Гиоргос бережно уложил дочери на плечи туго заплетенные косы, и с любовью смотрел, как они скользнули вниз двумя шелковистыми ручейками. – «Не плачь. Как бы там ни было, это твой первый колешник, и такое событие надо отметить!» – пошутил отец, пододвигая к ней поближе вкусно пахнущий лаваш и её любимую бастурму с зеленью. Маринэ послушно взяла протянутую рюмку, на дне которой плескался калёным прибалтийским янтарём знаменитый грузинский «Греми», и выпила, не чувствуя вкуса.
Никогда отец не предлагал ей коньяк, ей всего двенадцать, ей дозволена только минералка, а по праздникам бокал разбавленного мукузани[1]. Никогда не предлагал, а сейчас налил вторую рюмку (правда, на донышке, самую капельку), в которой янтарно светилась тягучая душистая влага, приятно ласкающая горло, согревающая его мягким бархатным теплом, стекающая горячей струйкой прямо в сердце… Волшебная капля, от которой внутри становится солнечно-жарко, как в Леселидзе, у бабушки Этери. Отец забыл, что ей через три часа на тренировку…