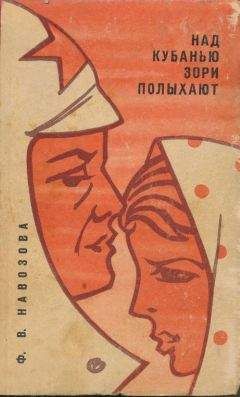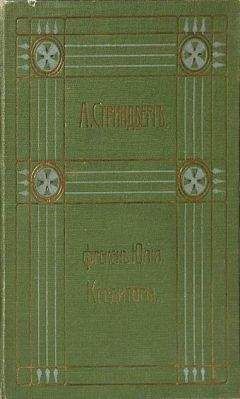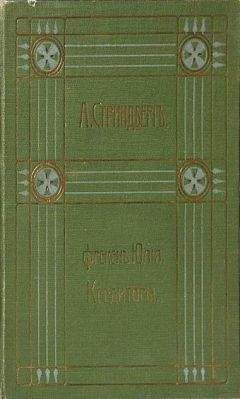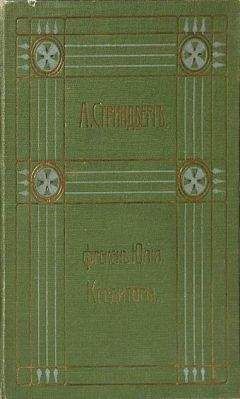Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 4. Красная комната
Теперь оба старых друга идут в ресторан Розенгрен, где они уверены, что не встретят молодых людей, и где они говорят о нумизматике и автографах. Потом они пьют кофе в уголке кафе Рюдберга и просматривают до шести часов каталоги монет; в это время выходит официальная почтовая газета, и они читают о назначениях.
Оба они счастливы в обществе друг друга, ибо никогда не спорят. Фальк так свободен от убеждений, что стал любезнейшим молодым человеком, и поэтому начальство и товарищи любят и ценят его.
Иногда они засиживаются и тогда перекусывают на Гамбургской и выпивают рюмку настойки в ресторане при Опере, а то и две рюмки. Когда потом видишь их в одиннадцать часов возвращающихся под руку, то, право, приятно глядеть.
Фальк часто обедает и ужинает в семействах, в которые его ввел отец Борта; дамы находят его интересным, но никогда не знают, как он относится к ним, потому что он всегда улыбается и говорит им приятные колкости.
Но когда он пресыщен семейной жизнью и общественной ложью, он идет в «Красную Комнату»; там он застает ужасного Борта, поклонника Исаака, его тайного врага и завистника Струвэ, у которого никогда нет денег, и саркастически настроенного Селлена, который постепенно подготовляет себе второй успех, после того как все его подражатели приучили публику к новой манере.
Лундель, покинувший религиозное поприще, после того, как кончил алтарную живопись, стал жирным эпикурейцем, который приходит в «Красную Комнату» только тогда, когда можно есть и пить задаром; он живет теперь портретами, что связано с бесчисленными приглашениями на обеды и ужины; как уверяет Лундель, эти посещения необходимы, чтобы изучать характеры.
Олэ, всё еще работающий у орнаментщика, после своего поражения в качестве оратора и политика, стал мрачным человеконенавистником и не желает «стеснять» прежних товарищей.
Фальк дик и пылок, когда он приходит в «Красную Комнату», и ничто не свято для него, кроме политики, к которой он не прикасается. Но если он увидит в то время, как заплывает свои ракеты, сквозь облака табачного дыма, мрачного Олэ на другом конце зала, тогда он становится мрачным, как ночь на море, и потребляет большие количества крепких напитков, как будто хочет потушить ими пламя или раздуть его.
Но с некоторого времени Олэ перестал показываться.
XXVIII
Снег падает так легко, так тихо, и всё бело на улице, когда Фальк и Селлен идут в госпиталь в юго-восточной части города, чтобы захватить собой Борга в «Красную Комнату».
— Удивительно, какое торжественное, сказал бы я, впечатление производит первый снег, — говорит Селлен. — Грязная земля становится…
— Ты сентиментален? — прервал его Фальк насмешливо.
— Нет, я высказывался только, как пейзажист.
Они тихо пошли дальше сквозь снег, кружившийся около их ног.
— Этот Конунгсгольм с его лазаретами кажется мне жутким, — заметил Фальк.
— Ты сентиментален? — сказал Селлен насмешливо.
— Нет, но эта часть города всегда производит на меня известное впечатление.
— Ах, болтовня! Она не производит никакого впечатления. Это твое заблуждение. Смотри, вот мы пришли, и у Борга светло. Может быть, у него сегодня вечером несколько хорошеньких трупов.
Они стояли теперь перед воротами института. Большое здание глядело на них своими многочисленными окнами, как бы спрашивая их, что им нужно в такой поздний час. Они прошли, утопая в снегу, в маленький флигель направо.
— Добрый вечер! — сказал Борг и отложил скальпель. — Хотите видеть знакомого?
Он не дождался ответа, которого и не последовало, зажег фонарь, взял свое пальто и связку ключей.
— Я не знал, что у нас здесь есть знакомые, — сказал Селлен, не желавший портить себе настроение.
Они перешли через двор в большое здание; дверь заскрипела и захлопнулась за ними, и огарок свечи, оставшийся от последней картежной игры немощно освещал белые стены. Оба посетителя старались прочесть по лицу Борта, шутит ли он; но на нём ничего нельзя было прочесть.
Теперь они загнули налево в коридор, который так вторил шуму их шагов, как будто кто-то шел за ними.
Фальк старался идти непосредственно за Бортом и иметь за спиной Селлена.
— Вот! — сказал Борг и остановился посреди коридора.
Никто не видел ничего, кроме стены. Но слышался звук как будто дождя, и странным запахом сырой клумбы или хвойного леса в октябре пахнуло им навстречу.
Правая стена была стеклянная, и за ней виднелись три белых тела, лежащих на спине.
— Здесь, — сказал он и остановился у второго с края.
Это был Олэ! Он лежал, скрестив руки на груди, как будто спал, губы поднялись кверху так, что казалось, будто он слит. Впрочем, он хорошо сохранился.
— Утонул? — спросил Селлен, первым пришедший в себя.
— Утонул! Узнает ли кто-нибудь из вас его платье?
Три жалких костюма висели на стене, из которых, Селлен тотчас же узнал подходящий: синюю куртку с охотничьими пуговицами и черные брюки, побелевшие на коленках.
— Ты уверен?
— Как мне не узнать собственной одежи, которую я взял у Фалька.
Из кармана куртки Селлен вытащил большой бумажник, ставший от воды липким и разбухшим. Он открыл его при свете фонаря и просмотрел его содержимое — несколько просроченных залоговых квитанций и тетрадку, на которой было написано: «Тому, кто захочет читать».
— Достаточно ли вы полюбовались? — сказал Борг. — Пойдем в ближайший кабак.
Трое опечаленных (слово «друзья» употреблялось только Лунделем и Левиным, когда они хотели занять денег), собрались в ближайшем кабаке, как комитет «Красной Комнаты».
При пылающем огне и батарее крепких напитков Борг начал читать бумаги, оставленные Олэ, но должен был порой прибегать к уменью Фалька разбирать автографы, потому что вода местами смыла чернила, так что казалось, что писавший плакал, как шутливо заметил Селлен.
— Молчать! — сказал Борг и выпил свой грог одним глотком, обнажив коренные зубы. — Теперь я начинаю и прошу не перебивать.
Тому, кто захочет читатьТо, что я теперь лишаю себя жизни — мое право, тем более, что я не нарушаю этим прав других людей, а скорее делаю их счастливыми; освобождается место и 400 кубических футов воздуха ежедневно.
Я совершаю это не из отчаяния, потому что размышляющий человек не отчаивается никогда; всякий поймет, что такой шаг привлечет внимание; откладывать его из страха перед тем, что будет, может только раб земли, ищущий этого предлога для того, чтобы остаться там, где ему, наверно, было не плохо. Я чувствую себя освобожденным при мысли, что могу прервать это существование, ибо хуже мне быть не может, а может быть, будет и лучше. Если же не будет ничего, то смерть явится блаженством, как сон в хорошей постели после тяжелого физического труда. Кто наблюдал, как при этом замирает тело и понемногу уходит душа, тот наверное не станет бояться смерти.
Почему люди так носятся со смертью; потому что они слишком глубоко закопались здесь в землю, чтобы не чувствовать боль, когда их вырывают. Я давно отвергнут землей, не связан семейными, экономическими и правовыми узами, которые могли бы удержать меня, и я ухожу отсюда, потому что я просто потерял охоту жить.
Почему я ухожу? Причины так многочисленны и уходят так глубоко, что у меня сейчас нет ни времени, ни возможности разъяснить их.
В детстве и юности я работал телом. Вы, не знающие, что значит работать от восхода до заката и потом впадать в животный сон, вы избегли первородного проклятия, потому что нет хуже проклятия, чем чувствовать, что душа остановилась в росте, в то время как тело копается в земле. Иди за волом, тянущим плуг, и пусть глаз твой изо дня в день глядит на серые глыбы земли, и ты в конце концов разучишься глядеть в небо. Стой с заступом и под жгучим солнцем копай ров и ты почувствуешь, как уходишь в землю, больную водянкой, и копаешь могилу собственной своей душе. Этого вы не знаете, вы, веселящиеся целый день и работающие в свободный промежуток между завтраком и обедом, чтобы потом дать душе отдых летом, когда земля зеленеет и вы наслаждаетесь природой и её облагораживающим и возвышающим зрелищем. Для земледельца не существует такой природы: пашня — хлеб, лес — дрова, озеро — лоханка, луг — сыр и молоко, всё вместе — земля, лишенная души!
Когда я увидел, что одна половина людей может работать душой, а другая только телом, я подумал сперва, что мир создал два рода людей, но потом вернулся мой разум и отверг это. Тогда возмутилась душа моя, и я решил тоже бежать от первородного проклятия — и стал художником.
Я могу анализировать стремление к творчеству, о котором так много говорят, потому что сам пережил его. Оно покоится прежде всего на стремлении к свободе от полезного труда; поэтому один немецкий художник определил прекрасное, как бесполезное; ибо, если произведение искусства хочет быть полезным и выдает намерение, или тенденцию, то оно — уродливо. Потом это стремление покоится ка высокомерии: человек хочет в искусстве играть роль Бога не потому, что может создавать новое, — этого он не может, — но для того, чтобы улучшать, комбинировать, претворять. Он не начинает с того, что восхищается природой, как прообразом; нет, он начинает с критики; он находит всё порочным и всё хочет улучшить.