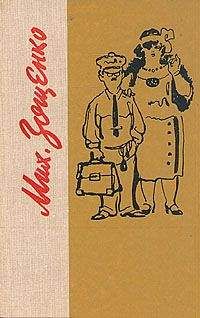Юрий Белов - Год спокойного солнца
— Все это хорошо, но тебе отвлечься надо, — обеспокоенно остановила его. Мая. — Ты же уснуть не сможешь, а завтра на работу.
— Я усну, — отмахнулся Ата, — и буду спать как убитый. Но я тебе про Назарова не досказал. Его душу тоже Гельдыев разбередил. Но едва я заговорил с ним, он в свою раковину сразу ушел. Будто совсем ему неинтересно. Жаловаться стал: возраст, мол, ухожу из газеты на спокойную работу. Но я же вижу: никуда он не уйдет, не такой человек. Расстались, и вдруг он догоняет. Не могу, говорит, так вот уйти, я подружиться с вами хочу. Пошли, стали опять говорить. В нем и прорвалось… Ходили по ночным улицам и, как мальчишки, громко, перебивая друг друга, хватая за руки, изливали душу. Надо же что-то делать, чтобы разноголосицы не было, чтобы ведомственные барьеры не мешали соседям видеть друг друга, чтобы сообща о родной земле думать и заботиться!..
— Ты прости, Ата, но тебе в самом деле надо переключиться, — настойчиво повторила Мая. — Хочешь, я тебе о судьбе Дантеса расскажу? Ты же вроде бы Пушкиным увлекся…
В последних ее словах прозвучала легкая ирония, он обиделся и ответил резко:
— Пушкиным — да. Но не Дантесом. — Все-таки Ата никак не мог переключиться на новую тему. — На кой ляд он мне? У меня вон с пустыней столько проблем…
— А я вот собираюсь ребятам своим рассказать, — упрямо возразила Мая.
— Нашла чего! — Ата искрение возмутился. — По мне, так я бы вообще вычеркнул это имя из всех учебников. Забыть раз и навсегда сукина сына!
Решительно поднявшись с дивана, Мая поманила его:
— Иди-ка сюда. У меня такие интересные материалы…
Она не оглянулась, зная, что он пойдет следом, и радуясь, что, кажется, удалось отвлечь мужа от навязчивых мыслей.
20В спальне у них стоял письменный стол, один на двоих. Сейчас он завален был книгами, раскрытыми на нужной странице или с закладками, и общая тетрадь, исписанная ровным учительским почерком, лежала на стекле.
— Садись и слушай, — повелительным тоном сказала Мая. — Я с тобой категорически не согласна. Судьба Дантеса поучительна, даже очень. Он дожил до глубокой старости и внешне все у него было благополучно. Но только внешне. Старость его не была безмятежной, скорее наоборот — она была мучительна. Судьба словно бы нарочно отпустила ему долгую жизнь — обрекла его быть свидетелем триумфа Пушкина. Думаю, уже одно это — столь мучительная пытка — была бы заслуженной расплатой за содеянное. Но судьба не ограничилась только этим. Неожиданное возмездие настигло его на пороге смерти, и кто знает, может быть он предпочел бы лучше умереть, чем пережить такое…
Ата сидел в кресле, закинув ногу на ногу и сомкнув на колене пальцы рук. Что-то важное, близкое сердцу, давно беспокоившее, но неясное еще, почудилось ему в рассказе жены. И она, заметив вспыхнувший в нем интерес, стала говорить, все больше волнуясь, подавляя в себе это волнение, стараясь казаться спокойной и неторопливой. Но по мере того, как рассказывала она об изгнанном из России офицере Жорже Дантесе, ставшем затем сенатором Франции, одним из участников разгрома Парижской коммуны, ей все труднее было сдерживать себя. И тогда она перестала думать о том, как выглядит со стороны, и даже жестикулировать начала, чего никогда не позволяла себе в классе. Она совсем на девчонку стала похожа, на абитуриентку, сдавшую первый вступительный экзамен в институт. И так милы были ее жесты, так наивны, что Ата, залюбовавшись женой, невольно улыбнулся.
Натолкнувшись взглядом на эту улыбку, она растерянно умолкла, и краска смущения стала заливать щеки.
— Разве это так смешно? — спросила она, отчаянно перебарывая в себе смущение и растерянность, стараясь казаться строгой.
— Ну что ты! — Ата порывисто поднялся и обнял жену, близко посмотрел ей в глаза. — Я любуюсь тобой… я люблю тебя.
— Вот еще, — с укоризной сказала она и слегка отстранила его, но он видел, что рада, что ей приятно слышать эти слова.
— Ты рассказывай, — попросил он, снова садясь в кресло, — мне все это очень надо знать, сам не знаю для чего.
Вид у него был покаянный, покорная готовность сидеть тихо и внимать ей, не свойственная ему просительность — все отвело подозрения. Подвоха здесь быть не могло.
— Не смотри на меня комом, а смотри россыпью, — улыбнулась она. Ата встрепенулся, но не спросил ничего, непонимание только отразилось на лице, и она пояснила: — Это пословица. Пушкин ее в сборнике русских пословиц отметил, привлекла, видно, чем-то внимание. Меткостью? Смотри россыпью, — повторила она задумчиво. — Правда, хорошо? Словно цветные камешки на ладони показываешь — вот какая красота!
— Правда, — кивнул Ата. — Хотя, если честно, до меня это не очень доходит… — И заметив, как вскинулись ее брови, быстро добавил: — Я понимаю, надо очень хорошо чувствовать русский язык, и не книжный, а народный, чтобы народные пословицы и поговорки понимать и принимать сердцем. Мне туркменские пословицы в переводе на русский как-то попались, стал читать — совсем не то, аромат потерялся. И я сейчас, слушая тебя, удивляюсь: как это ты научилась так тонко чувствовать русский язык?
— Это великий язык, Ата, — серьезно ответила Мая.
— Ты права, — снова кивнул он. — Но об этом в другой раз. А то мы отвлеклись… Так что же за возмездие пришло к этому подлецу?
Мая уже успокоилась и заговорила ровным и четким голосом, каким уроки привыкла вести, только чуть приглушила его:
— Дантес последние годы пребывал в уединении, избегал встреч с людьми. Все дальше уходила в прошлое дуэль на Черной речке. Уходила, но не ушла совсем. Оттуда, из прошлого, тяжелыми шагами Командора приходила к нему расплата. В феврале 1887 года, в пятидесятую годовщину дуэли, несмотря на строжайший запрет никого не принимать, лакей подал Дантесу визитную карточку и сказал: — «Мсье настаивает…» На карточке по-русски было написано имя настойчивого посетителя: Онегин.
— Онегин? — переспросил Ата и жадно потянулся к ней.
— Да, такое имя взял себе почитатель Пушкина, собиратель его рукописей. Он пришел к Дантесу, чтобы задать один-единственный вопрос: «Как вы на это решились? Неужели вы не знали, что Пушкин — гений, слава России?» Дряхлый, трясущийся старик попытался оправдаться: — «А я-то? Он мог меня убить! А ведь я стал сенатором…»
— Так и было? — спросил Ата, не умея скрыть волнения.
Она молча протянула ему журнал «Нева», раскрытый на статье «Пушкинский дом». На полях в нескольких местах было отчеркнуто карандашом. И против этого места тоже: «Не сев на предложенный стул, прямой и суровый, как правосудие, Онегин спросил: „Как вы на это решились?..“»
— И здесь прочти, — показала Мая.
Ата быстро пробежал глазами по строчкам:
«Жорж Дантес, женатый на Екатерине Гончаровой (сестре Натальи Николаевны), имел от нее двух „благополучных“ дочерей и одного тоже „благополучного“ сына. Но у него была еще одна дочь. Леония-Шарлотта. Она была девушкой необыкновенной. В то время как ее сестры веселились при дворе Второй империи, она изучала курс Политехнического института и была, по словам профессоров, первой в науках. Леония фанатично любила Пушкина, своего дядю, знала наизусть его стихотворения. В ее комнате висел портрет великого русского поэта. Отца она называла убийцей, не разговаривала с ним, не выходила из комнаты, когда Дантес появлялся в доме. Однако необходимость жить с отцом, убийцей ее кумира, подточила силы. Вспышки гнева чередовались с мрачной печалью, Леония-Шарлотта сошла с ума и вскоре скончалась»[2].
Опустив на колени журнал, Ата потрясенно смотрел на жену. Он и в самом деле не понимал, почему это так важно для него, но чувство благодарности к Мае было искренним и глубоким, как если бы открыла она ему нечто такое, без чего и жить-то невозможно среди людей. А может, так оно и было?..
21С утра Казаков поехал в арбитраж. Ожидавший его там юрисконсульт треста Семен Маркович Могилевский уверял, что иск пустяковый и дело они обязательно выиграют. Казаков и сам знал, что формально трест может иск не удовлетворить, поскольку при заключении договора с поставщиком они своевременно составили и послали протокол разногласий, поставщик же о своем несогласии с изменениями не сообщил, и замечания, хитроумно сформулированные Могилевским, юридически считаются принятыми. По существу же трест был не прав, и Казаков прекрасно знал это. Неделю назад, когда Семен Маркович знакомил его с материалами дела в связи с передачей в Госарбитраж, Казаков только усмехнулся: зевнули товарищи поставщики, не обратили внимания на поправку, вот и кусайте локти. Теперь же ему вдруг противно стало участвовать в этом деле, постыдной показалась собственная роль в нем. Сразу вспомнился Сомов, как он рассуждал тогда в машине: наше дело — скважину сдать, а там хоть трава не расти. От стыда кровь прилила к лицу: не осудил же его тогда, усмехнулся только, за свои механические колодцы обиделся. Ретроградом назвал, а насчет того, что каждый должен свое дело делать и на других не оглядываться, даже и не задумался. А с такими рассуждениями так далеко можно зайти, что…