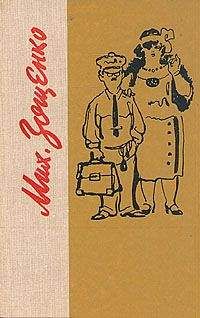Юрий Белов - Год спокойного солнца
— Его взгляд, — повторил он вдруг после безнадежных, казалось, томительных минут молчания. — У того свой взгляд, у этого… А почему мой взгляд на мир, на человека не хотят принять? Отвергают только потому, что не стандартно, непривычно…
— Отвергают потому, что плохо, — наконец рассердился Назаров. — И тот взгляд на мир, на человека, который ты выдаешь за свой, на самом деле заимствован у других, у того же Кафки. И мастерством не блещешь. К литературе, как и ко всякому делу, надо относиться серьезно, ответственно, профессионально.
— Ладно, посмотрим, — буркнул Сева, и не понять было, скрытая это угроза или в самом деле парень решил подумать…
Со скамьи видна была черная мраморная доска на светлом, мраморном кубе в нижней части постамента и золотом сверкающие слова. Отсюда их не разглядеть, но Марат и так знал, что там выбито, какие строки. С другой стороны куба, на такой же черной доске, еще две строки, он их знал и любил. Но будь его воля, он выбил бы другие пушкинские строки.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
Они ему очень дороги были и казались выражением сущности и цели не одной только поэзии. Как же устроители памятника не догадались именно это запечатлеть на камне? Впрочем, ставили его до революции, а за теми двумя шли другие строки, которые власти ни за что не решились бы напомнить:
…Что в мои жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Вот ведь в чем дело…
— Ты когда в круиз? — спросил Назаров.
— Через две недели, — неохотно ответил Сева и, вдруг озлясь, добавил: — Если, конечно, вообще поеду. А то ведь могут и не пустить. А как же: идейно невыдержанный, политически незрелый!
— Эк тебя, — покачал головой Назаров; помолчав, посоветовал:
— Ты блажь из головы выбрось. Съездишь, посмотришь на мир, может, тогда и свой дом лучше понимать будешь, товарищей своих. — Он посмотрел на Севу; что-то изменилось в его лице, какая-то волна прошла, но Марат не смог понять, что это. — Конечно, в туристической поездке мало что поймешь — «галопом по Европам», но все-таки… Иногда в самом деле надо в дальних странствиях побывать, чтобы по достоинству оценить на родине самую малую малость, которой и значения-то не придавал. Ты какой иностранный язык изучал?
— Английский.
— Не забыл?
— Да так… — Сева неожиданно зыркнул на него глазами, усмехнулся и сказал скороговоркой: — Ай эппли ту ю политикал асайлум.
— И что же это означает? — нахмурился Назаров; ему не понравилась кривая ухмылка парня, и он подумал, что сказанная им фраза не может быть случайной, ученической болтовней, и ожидал насмешки, издевки даже, но то, что услышал, поразило его.
— Прошу политического убежища, вот что.
Набычившись, Сева выжидательно посмотрел на Назарова.
— Глупо, Сева, ты уж извини меня, — сказал Марат, опять качая головой. — Так, брат, не шутят.
— А я и не шучу, — с вызовом бросил Сева. — Меня только что во всех смертных грехах обвинили: я и такой, я и сякой, я и безнравственный. Что же мне остается?
— Ох, Сева, Сева! — Назаров был огорчен и не знал, как убедить молодого человека. — Обида разум твой мутит, я понимаю. Но все-таки нельзя так распускаться. Пределы есть во всем, и святое в душе у каждого должно быть — беречь его надо.
— А что — святое? — вспыхнул Сева. — Святое — это — что в божьих храмах проповедуют. А здесь, — он глазами повел вокруг, — где оно, святое? Ну покажите! Они о поэзии рассуждают, а сами даже Хлебникова не читали. А учение Фрейда! Разве он не прав? Половое чувство в основе творческой деятельности человека…
— А ты сам-то читал? — в упор спросил Назаров. — Кафку, Фрейда читал?
Сева не ожидал такой резкости, прямоты этой. Он Назарова только предельно вежливым знал, деликатным…
— А вы как думаете? — попытался он вызов изобразить, но сам почувствовал, что неуверенно, и жалко прозвучал его контрвопрос.
— Я не думаю — я уверен, что не читал, а только что-то там такое слышал. Модно, видите ли, в определенной компании Кафку помянуть всуе или Аполлинера. А уж Фрейд… Но ты же о них ничего не знаешь, а берешься судить. Ты слышал, что Зигмунду Фрейду принадлежит статья «Достоевский и отцеубийство»? Он свой голос присоединил к злобному западному хору, и по сей день обвиняющему великого художника бог знает в чем — в отцеубийстве, кровесмешении, садизме, гомосексуализме. И это о писателе, который всеми силами души восставал против мирового зла! А ты — Фрейд, Фрейд… Не все то хорошо, что где-то модно. Новаторство, Сева, — чуть смягчаясь, продолжал Назаров, — от постижения жизни должно идти, а не от голого умствования. Хлебников всю жизнь не только новую форму стихосложения искал — он постичь хотел смысл человеческого бытия. Но в жизни искал, в самой жизни, хоть и не прямой дорогой шел, часто плутал. В двадцать первом году Хлебников приехал в Персию. Его там прозвали Гуль-мулла. Священник цветов. Цветов, заметь, а не призраков.
— Премного благодарен, просветили, — с нескрываемой иронией произнес Сева и даже поклонился церемонно, хоть и не встал при этом. — Еще бы послушал, да мне на тренировку пора. Как говорится, сила есть — ума не надо.
Видимо, он как-то переборол себя, обида отходила, только злость виделась во всем — в интонации, в жестах, в словах. Но он скрывал ее, скоморошничая, хотел казаться уверенным в себе. Он и поднялся легко, и руку поднял театрально, прощаясь.
— Чао!
— Ты все-таки от сегодняшнего урока не отмахивайся, поразмышляй на досуге, когда остынешь, — посоветовал Назаров и тоже махнул ему рукой.
— Ладно, — на ходу кинул Сева, но вдруг остановился, спросил с наигранной беззаботностью, за которой виделась все-таки настороженность, беспокойство: — А как там моя статья? Говорили: пойдет, да что-то не видать на газетных страницах. Или тоже нашли, что потеряны нравственные ориентиры? Постфактум, как говорили древние греки.
— Тогда уж римляне, — улыбнулся Марат. — Слово-то латинское. Но это так… А статья пойдет. Она однажды даже на полосе стояла, но слетела — официоз вытеснил. А у газетчиков примета: если слетела раз, то еще полетит. Но не в корзину не бойся.
— И на том спасибо, — снова церемонно поклонился Сева. — Как говорили древние… не знаю кто, магарыч за мной.
— Французы про таких говорят: ужасный ребенок, — подавляя в себе желание снова грубо осадить его, сказал Назаров. — Ты должен знать, что магарыч имеет два значения, одно из них — взятка. Ладно, не обижайся. Скажи, а как ты на этот материал вышел?
— Секрет фирмы, — засмеялся Сева. — Но факты железные.
— Я знаю…
— Проверяли, да? — обиделся Сева. — Думали — липа?
— Ничего не думали, просто так положено, ты же не штатный, мало ли что. А материал острый, серьезный.
— Прозвучит? — враз позабыв обиду, загорелся Сева.
— Поживем — увидим, — улыбнулся его горячности Назаров.
Мальчишка, думал он, провожая Севу взглядом. Тщеславия много, отсюда и обиды. Ничего, время пообтешет… И тут у него замерло сердце: а откуда же Сева эту фразу про политическое убежище знает? Язык учил кое-как, сам признается. В учебниках такого нет, надо же со словарем посидеть, чтобы сложить… Да не может быть, чтобы всерьез, попробовал отмахнуться он, просто мальчишеское ухарство. Вот и эту фразу сложил, чтобы в компании дружков произвести впечатление. Дурной еще просто.
Ему и в голову не могло прийти, как низко пал этот статный, обаятельный парень, такой с виду интеллектуальный, такой весь современный…
Многого не знал он о Севе. — Придет время, и он подумает об этом с горечью и будет казнить себя за невнимание, за черствость и бог знает за что еще, в чем и не повинен вовсе. Но теперь, глядя, как удаляется его высокая крепкая фигура и колышутся длинные волосы в такт легкому шагу, Назаров только жалел его, как жалеют человека, которого постигла неудача, — жалко, да что поделаешь, сам виноват, молодой еще — исправится…
14Коридор был по больничному светел, тих и чист. Линолеум влажно блестел, на нем и следов не было видно, будто никто здесь не ходил. За закрытыми дверьми по обе стороны не слышно ни голоса, ни звука.
Живут же люди, с внезапной завистью подумал Сомов. У них в конторе всегда стоял шум и гомон, коридор затоптан кирзовыми сапогами, и пахло всюду табачным дымом, окалиной, соляркой и тем застойным людским духом, какой бывает еще разве только на вокзалах. В конторе работало немало женщин, которые и хорошими духами пользовались, и пудрой, и другой косметикой, но дух этот, оставленный вваливающимися время от времени механизаторами, разгоряченными работой и неполадками, был неистребим.
А здесь и впрямь потянуло вдруг тонким запахом дорогих французских духов, и Сомов замер и насторожился, под стать гончей, почуявшей след. Безошибочно определив, откуда исходит этот волнующий запах, он для порядка стукнул в дверь согнутым пальцем и толкнул ее.