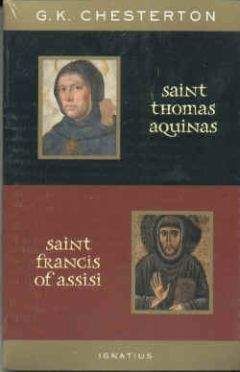Криста Вольф - Расколотое небо
„Если бы я ушла с ним, — думала Рита, — я причинила бы вред не только себе. Я причинила бы непоправимый вред ему, в первую очередь ему“.
— Все было бы гораздо проще, — объясняет Рита Шварценбаху, — если бы там по улицам рыскали каннибалы или если бы там голодали, а женщины ходили бы с заплаканными глазами… Но людям живется там хорошо.
Они даже жалеют нас. Они считают, что сразу бросается в глаза, где живут богато, а где бедно. Год назад я бы пошла за Манфредом, куда бы он ни пожелал. А сейчас…
Вот это-то и нужно знать Шварценбаху.
— Что сейчас? — с нетерпением переспрашивает он.
Рита задумалась.
— Через неделю после того, как я вернулась от Манфреда, было воскресенье, тринадцатое августа, — говорит она. — Услышав утренние известия, я сразу же пошла на завод. Оказалось, я была не единственная, и тут я поняла, что неспроста на завод пришло в этот воскресный день столько народу. Одних вызвали, другие явились сами.
Шварценбаху понятен смысл ее слов. Нечто подобное пережил и он в тот воскресный день.
— Но ведь вы его любили, — говорит Эрвин Шварценбах. — Для многих девушек это важнее всего. А для вас?
— Сколько раз я сама пытала себя. Ночью лежала без сна и представляла себе, как бы я жила там, вместе с ним. Днем не находила себе места. Но чужбина оставалась мне чужда. Здесь мой дом, моя родина.
— Тяга к великим историческим свершениям, — обобщает Эрвин Шварценбах, кивая головой.
Рита невольно улыбается. И он толкует о том же.
Но разве сама она не ощущала того же, когда бродила с Манфредом по жалкому берлинскому скверу?
Как одержимые блуждали они взад-вперед по аллейкам, пока не очутились в беседке, обнесенной подстриженным кустарником. До смерти усталая, Рита прислонилась к дереву, а Манфред стоял перед ней, упершись руками в ствол по обе стороны ее головы.
Они смотрели друг на друга, не видя и не слыша ничего вокруг. Да ничего, ровно ничего и не происходило за пределами тесного пространства между деревом и руками, в котором они были замкнуты.
— Как поживает Клеопатра? — тихо спросил он.
— Почти ничего не ест.
— Попробуй давать ей помидоры.
— Хорошо. Попробую.
Оба улыбнулись. Они уже стали отдаляться, освобождаться друг от друга. И вот снова улыбнулись.
Да, это все еще ты, тот самый, что каждый вечер стоял на шоссе у затрепанной ветрами смешной ветлы, тот самый, с непомерно длинными руками и птичьей головой. Ох, я тогда сразу же поняла тебя. Но у меня не было выбора — идти или не идти к тебе. Если это бывает в жизни только раз — а мне кажется, такое бывает только раз, — тогда у меня это уже позади. И у тебя тоже, правда?
Оба улыбнулись. Манфред прильнул лицом к ее волосам. Стиснул ее руки. Риту забила дрожь. Она откинула голову, чтобы сквозь редкие ветки увидеть небо — полинявшее от зноя, белесое предвечернее небо. Ничего еще не потеряно. Вот его рука. Запах его кожи. Его голос, незнакомый сейчас ему самому. Немая зеленая стена отделяет нас от мира. Что такое мир? Разве он существует? Существуем мы, О господи, существуем мы…
Это длилось очень долго — так, по крайней мере, казалось им, и все же непроницаемую стену пробил хрипловатый детский голосок:
— Тузик, пузик, что с тобой? Что мотаешь головой? Тузик, пузик, что с тобой? Песик расцарапал носик. Сальцем носик свой натрет — через сто лет заживет!
Через сто лет! Что за чушь! Никакой стены нет, а есть ты и я и хрипловатый ребячий голос с дурацкой песенкой.
Рита бросилась бежать к выходу из этого проклятого сквера и свернула в первый попавшийся переулок. Там Манфред догнал ее. Они перешли на теневую сторону. Должно быть, они миновали несколько улиц, прежде чем очутились перед чистеньким садиком-кафе. Они уселись за изящный круглый столик под большим зонтом, похожим на огромный мухомор. На сегодня его миссия была окончена. Солнце уже скрылось за четырехэтажным домом, в нижнем этаже которого помещалось кафе.
Они ели мороженое и смотрели на посетителей, которые приходили, уходили и были заняты только собой. Они же были слишком измучены, чтобы заниматься собой. Они понимали: сейчас, сию минуту или завтра, послезавтра боль возвратится, источит, истерзает тебя вконец. Пока что им была дарована передышка — от усталости они отупели. Они с готовностью помогли ребенку извлечь закатившийся под их столик мяч, вежливо выслушали извинения мамаши; суетливому толстяку, назначившему на сегодня в этом кафе грандиозный едет родни из ближних и дальних краев, они с улыбкой разрешили взять третий, лишний стул и пододвинуть его к длинному семейному столу.
А сами молчали так упорно, что им стало страшно, хватит ли у них духу когда-нибудь заговорить. И сидели так неподвижно, что казалось, у них не будет сил сдвинуться с места.
Оба уже твердо знали, как поступят дальше, но что сделают сейчас — не знали.
За семейной трапезой становилось шумно:
— Официант! — надрывался суетливый толстяк.
Единственная официантка не знала, куда раньше бежать. Она со всех ног бросилась на зов нетерпеливого посетителя.
— Мы специально вытребовали сюда дядюшку из Восточной зоны. По-вашему, мы его звали, чтобы показать, как у нас отвратительно обслуживают посетителей? — накинулся тот на нее.
— Из Восточной зоны? — быстро переспросила официантка и посмотрела на дядюшку. Он приехал из деревни и парился в парадном синем костюме. — Из какого города?
— Из Германсдорфа, — ответил старик.
Официантка покраснела. Не может быть!
Ведь она сама из тех же мест. Она подошла сзади к приезжему гостю, обхватила спинку его стула, что ей совсем не полагалось бы делать, но радость пересилила еще не въевшуюся в нее муштру. Нет, ее деревни он не знает. Но с ее земляком Ширбахом они вместе служили в армии. Официантка вдруг живо заинтересовалась Ширбахом, о котором ни разу не вспомнила с тех пор, как уехала из деревни.
— А как урожай? Хороший?
— Мог бы и получше быть в нынешнем году.
— Но вы поедете обратно?
— А как же! Куда мне еще ехать?
— Послушайте, фрейлейн, — прервал их суетливый толстяк. — По-человечески я вас вполне понимаю. До чего же тесен мир! Даже свободный мир, — он хихикнул. — Однако ваш земляк пропадает от жажды.
Девушка заспешила. Убегая, она пожаловалась старику:
— Верьте мне, мужчины нынче такие, что ни об одном доброго слова не скажешь…
Рита откинулась на спинку стула. Господи, уже луна взошла! На светлом зеленоватом предвечернем небе виднелся почти прозрачный, наполовину выщербленный диск. Вокруг него скоро начнут собираться ночные тени, но пока их нет и в помине.
После того как луна незаметно для них стала видимой, изменился и воздух. Теперь дышалось легко, слишком легко. Даже не чувствовалось, что дышишь. Хотелось вобрать побольше воздуха в легкие, чтобы не задохнуться в этом безвоздушном пространстве, где каждый был предоставлен самому себе и не мог поделиться с другим ни радостью, ни горем.
Город оглох, онемел и, сам того не замечая, словно вдруг ушел под воду. Высоко в небе тусклым отблеском живого мира светила луна. А кругом ни звука, ни огонька. Только световые рекламы время от времени вспыхивали загадочными головоломками: Саламандра вне конкуренции — Пользуйтесь услугами Некермана — 4711 незаменим.
Наступал тот неверный час, когда все кошки становятся серы.
29
На застекленной веранде тишина стуком дождевых капель отсчитывает секунды.
— Дождь кончается, можно идти, — говорит Шварценбах.
Но оба не двигаются с места.
— Иногда я задаю себе вопрос, можно ли мерить мир нашей меркой, — говорит немного погодя Рита. — Меркой добра и зла? Может, он попросту такой, какой есть, и больше ничего?»
«Какой тогда смысл в том, что я не осталась у Манфреда? Тогда, значит, всякая жертва бессмысленна. Недаром он говорил: игра всегда одна и та же, меняются только правила. И над всем царит улыбка авгуров…»
Шварценбах понял ее мысль, но и он отвечает не прямо.
— Знаете, почему я пришел к вам сегодня? — говорит он. — Мне хотелось узнать, нужно ли всегда и при всех обстоятельствах отстаивать очевидную для тебя правду.
— Вы хотели услышать это от меня?
— Да, хотел и услышал, — говорит Шварценбах.
— Что случилось? — изумляется Рита. — Почему вы вдруг усомнились в этом?
— Я почувствовал, что почва уходит у меня из-под ног, — с полной откровенностью отвечает Шварценбах. — Понимаете, все, как нарочно, сошлось разом.
Он напечатал в педагогическом журнале статью о догматизме в преподавании. Раскритиковал там неправильную методику некоторых педагогов, в частности у них в институте. «До сих пор кое-кто еще пытается предписывать, вместо того чтобы убеждать, — писал он. — Нам нужны не начетчики, а социалисты».