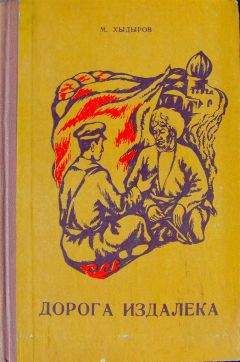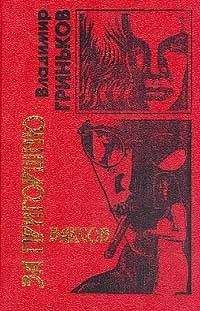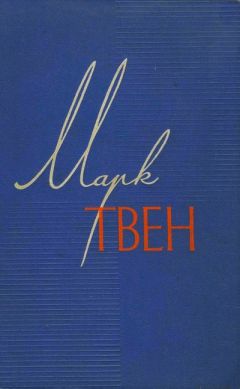Мамедназар Хидыров - Дорога издалека (книга первая)
— Ягненочек мой… — дед задумчиво погладил длинную седую бороду, помолчал. — Право, не стоит обращать внимания… Болтает глупая, злобная баба, что не ум взбредет… Пустяки все это! Давай-ка вот я тебе сказку еще расскажу. Интересную! Про журавля.
Сказка и в самом деле оказалась интересной, и прежде я ее не слыхал. Только не шла она мне на ум в тот раз. Почему дед не хочет объяснить насчет торбы? Что-то здесь скрывается необычное… И не хочется огорчать дедушку. Но желание разгадать тайну еще сильнее.
Скоро я оправился, стал вставать. Побои, перенесенные страданья быстро забылись. А вот оскорбительные, загадочные слова Кызларбеги памятны, не идут из головы.
Недели через три я уже выбегал на улицу поиграть с мальчишками. Потом, еще неделю спустя, встал однажды рано утром и почувствовал себя совершенно здоровым. Умылся, говорю маме:
— Не ходи сегодня за травой для коровы. Я отведу ее попастись.
— Хорошо, сынок, — согласилась мать. — Только уж не дерись больше ни с кем, как в прошлый раз…
Я обещал постараться. И погнал корову за аул, к озерцам. Снова встретил своих товарищей, ребятишек, мы искупались все вместе, потом затеяли игру в альчики. К счастью, Курбан возле нас не появлялся. Я и после обеда в тот день выгонял корову пастись. Солнце уже совсем низко опустилось, когда я пригнал корову домой во второй раз. Поужинали втроем: я, мама и дедушка. Отец с сестренкой где-то у родственников задергались.
После ужина дед, захватив чайник чаю, отправился к себе в мазанку, мать стала стелить в кибитке постель. А я увязался за дедом. Он сел под навесом, стал нить чай маленькими глотками. Я сидел и молча глядел на небо. Вставала луна, прохладный ветерок шелестел листьями урюка, доносился аромат цветов. Звезды, мерцая, горели на небе. Казалось, тысячи серебряных монеток нашиты на громадный полог из темно-синего бархата. Я издали наблюдал за дедом: он отхлебывал чай из пиалы, а сам, не отрываясь, глядел на небо. «Может, дедушка хочет отыскать свою звезду?» — подумалось мне. Я слыхал, будто своя звезда есть у каждого человека. Но как ее узнать?..
Мне показалось, что у деда в эти минуты очень хорошее настроение: он, видимо, с особым удовольствием, в полной тишине, в одиночестве, пил чай глоток за глотком, в задумчивости поглаживал кошку, прилегшую у его ног. Но если я опять попрошу ею рассказать о том, «которого в торбе привезли»?
— Дедушка… — тихонько окликнул я. Он опустил пиалу, прислушался, глянул в мою сторону.
— Нобат? Верблюжонок мой, ты все не спишь?
А я уже подбежал к нему, взобрался на супу, прижался к его теплому боку:
— Дедушка… Ну расскажи о том… помнишь, Кызларбеги в тот раз меня ругала…
Горестно вздохнул дед, молчал долго, тягостно. Я сразу пожалел, что огорчил старика, да уж поздно было жалеть. Наконец он заговорил — сперва с трудом и неохотой, запинаясь. Понял, видно: все равно я не отступлюсь.
— Ох, ладно уж… расскажу… Не думал я, что вспоминать придется про все это… Да… Видишь, Нобат, внучек, родился-то я не в здешних местах, а далеко-далеко отсюда… Там и предки мои жили, там и похоронены… Места те совсем непохожи на здешние: тут вон все равнина, пески да степь, а там, брат, горы. Высоченные горы кругом! И река тоже есть. Неширокая, но быстрая, и вода в ней прозрачная, холодная. Называется река — Сумбар. Уж как давно это было, будто во сие видел… Горы, а у подножья — наш аул. По горам деревья растут, высокие, — все больше орех. Целые ореховые леса, если чуть подальше отойти. Воздух там мягкий, часто ветерок прохладный дует. Летом не очень жарко, а зимой морозов не бывает никогда. Снег порой выпадает, да сразу же весь и растает. И трава зеленая круглый год, листва не опадает в садах… Зеленые сады, а между ними серебряной лентой — Сумбар.
В горах звери водятся, и жители аула — почти все охотники. Часто уходил в горы на охоту и мой отец. Когда я подрос, он и меня стал брать с собой. Сколько мы с ним тогда исходили ущелий, сколько полазили по дальним склонам! Устраивали засады у водопоев, на уединенных тропках… Ну, бывало, что и с пустой сумкой домой возвращались. Отец тогда становился мрачнее тучи, слова не вымолвит всю дорогу до дому. А если с добычей идем — отец песни пел, я тоже что-нибудь от радости кричал… В горах весело: крикнешь — эхо отзывается. Мне долго казалось — кто-то передразнивает нас, притаившись в зарослях на другой стороне ущелья. Хорошо в горах — красота кругом, безлюдье, приволье!..
Я рос единственным ребенком в бедной семье. Отец и мать были уже в летах — ему пятьдесят, ей больше сорока. До меня у них рождались дети, да все умирали. Вот они и дрожали надо мной, видели во мне последнюю свою надежду, продолжателя рода… Случалось, когда я поменьше был, отец уходит куда-нибудь надолго и матери наказывает:
— Береги нашего сыночка. Глаз не спускай, чтоб ни на шаг от тебя!
Мать и старалась. А если самой нужно отлучиться, отводила меня к соседу. Там было много ребятишек, и над всеми надзирала мать хозяина, старушка по имени Донди. Она сказки умела рассказывать, а нам, ребятне, только бы слушать. Да, миновало с тех пор уже целых семьдесят лет!
Так-то и в последний раз, последний день в родном ауле, помню, слушал я сказки бабушки Донди.
Стояла зима. Горы в холодном тумане, то морозит, то примется накрапывать дождь. Накануне вечером отец вернулся поздно, усталый, промокший — работал у бая в соседнем ауле. Поужинали мы, огонь потушили, сразу спать. И наутро поднялись на заре — снова туман, пасмурно, сыро. Только стали завтракать, к дверям кибитки парень с другого конца аула:
— Ночью умер Сеидкули…
Проговорил, постоял у двери. В кибитку не заходит, и мы не приглашаем: обычай такой.
Отец торопливо допил чай, поднялся:
— Пойду. Человек бедный, родственников нет, нужно помочь с похоронами. А ты управишься — тоже приходи. Его, — на меня кивнул, — к соседу отведешь, пускай с бабушкой посидит.
Кетмень на плечо — и вон из дому. А вскоре и мы тоже. Мать привела меня к старухе Донди, та посетовала:
— Ох, ох! Всякому свой час… Трудно же придется бедняжке вдове с ребятами малыми. Ну, иди, голубушка, успокой ее. А за сына не тревожься.
Ушла мать. Не думал я в ту минуту, что больше уж не суждено мне увидеть ее.
С утра бабушка Донди сказками нас позабавила.
Сперва про верного бычка, который своего хозяина спас от гибели. Потом стала вспоминать былое — войны, набеги. Притомилась старая, говорит нам:
— Идите, ребятки, поиграйте на дворе. А я вздремну.
Только мы из кибитки — а там топот коней, звон оружия, чужие грубые голоса. Мы так и обмерли, хоть не понимаем, что произошло… Туман еще гуще прежнего, а из тумана — тени всадников вырастают, надвигаются на нас. Чужие! И уже одни, другой соскакивают на землю с коней, хватают нас, ребятишек, — и в кибитку. Бабушка поднялась — только руками всплеснула:
— Аллах всемогущий!.. Детей, детей-то пожалейте, окаянные!..
— Молчи, старуха, — прикрикнул на нее один из чужаков с черными усами, торчащими, словно у кота. Но бабушка Донди проворно вскочила на ноги, зубами впилась усатому в руку, чтобы внучка своего отбить. Тот выхватил саблю да рукояткой по темени хватил ее. Охнула старушка, обмякла, грохнулась наземь, на ковер… А в кибитку их уж набилось, верно, с десяток. Потрошат дундуки, ковры свертывают. Торопятся — наших-то никого поблизости, все на похороны подались. Но трусят чужаки. Вьючат на коней награбленное, нас, четверых детишек, усаживают, со связанными руками. Это называлось — аламан, разбойничий набег на чужой аул, чтобы ограбить, угнать людей в рабство. Первый раз в моей недолгой жизни приключилась такая напасть — и сразу на мою голову…
Меня вскинули на коня, один из чужаков левой рукой обхватил за поясницу. Тронулись. Аламанщики стараются не шуметь и нам грозят кулаками: «Ш-ш-ш!..». Мы и без того напуганы. Только один из внучат бабушки Донди, самый маленький, никак не может успокоиться — визжит от страха, ничего не понимает.
— Молчи! Прикончу сейчас! — шипит чужак, ножом ему грозит. А усатый, что бабушку по голове стукнул, тут как тут:
— Что ты над ним дрожишь? Выдаст всех… Не брат же он тебе. Сверни шею — и конец…
— Сердца у тебя нет, что ли? — вполголоса вступился еще один. — Малыш ведь…
— Нету сердца! — рявкнул усатый. Глаза кровью налились. Потянулся он с коня, схватил малыша — его новый «хозяин» и моргнуть не успел, — стиснул ему шею…
Я в ужасе зажмурил глаза… А когда раскрыл, мальчика уже не было видно, только лениво переругивались двое разбойников… У меня перед глазами до сих пор стоит этот малыш, дрожащий, несчастный…
Долго ли, коротко мы ехали с ватагой разбойников, не помню. Очнулся я в каком-то незнакомом ущелье. Тут остановились всадники, спешились, нас, пленников, ссадили с коней. Немного погодя слышим топот, рев, блеянье — движется еще ватага аламанщиков, гонит стадо овец, верблюдов. И пленных ведут, мужчин, ребятишек из соседнего аула в горах. Потом — новая партия разбойников с пленными, награбленным добром. И еще одна, и еще… До вечера в ущелье собралось целое вражеское войско, скота нагнали видимо-невидимо и пленных, наверное, несколько сотен. Гомон стоит, плач, рев, разноголосый говор. Чужаки тоже говорят, вроде, по-нашему. После я узнал: войско хивинцев пришло с севера и напало на наши края. А среди них немало туркмен.