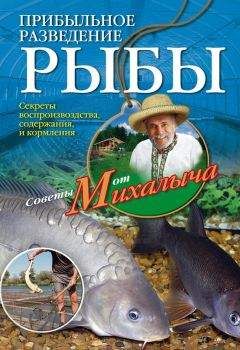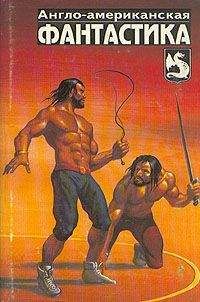Борис Левин - Веселый мудрец
Однако пора и домой, матушка заждалась с ужином. Сама не сядет за стол. Сколько раз просил: «Не жди, может, задержусь». Вот и поспешай, брат Иван, во дворец свой на краю Соборной, туда, где встречаются четыре ветра четырех сторон света.
Свернул в переулок, издали увидел духовную семинарию — и сердце забилось сильнее. Так получалось помимо его воли: идет домой — и обязательно повернет в переулок, пройдет мимо семинарии, пусть это и крюк лишний, а все равно тянет. Замедляя шаги, засмотрелся на слабо освещенные окна: никак семинарская братия не разошлась еще, зубрит, мытарится. Заглянуть бы, вытащить семинаристов на свежий воздух. Да нет уж: мимо, мимо ведет дорожка.
— Иване! Ты ли это?
Никак, кличут? Обернулся. Да это же отец Иоанн! Хотел бежать — так обрадовался, но тот проворно сошел с крыльца и уже сам спешит навстречу. В рясе, бородат, а лицо свежее, нестарое.
Подошел, обнял, защекотал бородой:
— Здоров?
— Что мне сделается? А вы, отче? Почти неделю не виделись.
— О чем вспоминать? Покашлял, попил медку — и прошло... А я ждал тебя, Иване.
— Простите, отче... Много работы.
Учитель смотрел зоркими добрыми глазами на своего бывшего ученика. Вырос, выровнялся Иван, стал мужественнее. Тонкое благородное лицо, оспины нисколько не портят его, они почти даже не заметны, как перчины-родинки.
Иван привлек внимание Станиславского еще в первые дни знакомства, на первых же лекциях, вдумчивостью, самобытностью суждений, любознательностью и глубокими, совсем не семинарскими, знаниями. Первым учеником был и остался. И если бы учился дальше — кто скажет, кем бы стал? Никто не знал так историю, философию и латынь, как он, и никто не умел так удачно написать стихотворение на вольную тему. Очень надеялся Станиславский на этого ученика, думалось: со временем Иван заменит его, а может, и дальше пойдет. Хотел видеть его большим человеком. А вышел — в исполнители бумаг. В списки канцеляристов вписал его десятилетним мальчиком отец — служащий магистрата. Горькая судьба. А что изменишь? Кажется, все бы сделал для него, если б только мог.
Учитель вздохнул, и Котляревский, поняв его взгляд, его невольный вздох, приложил руку к груди.
— Спасибо, отче, — сказал он дрожащим голосом, — за все доброе, что дали мне. Вовек не забуду! Где бы я ни был, что бы со мной ни случилось, ваше слово, ваша мудрость, как заря, светить мне будут.
Станиславский, тоже растроганный, чтобы скрыть волнение, замахал руками:
— Иване, что говоришь? Чему я тебя научил? Да не будь душа твоя раскрыта всему новому, никто ничего не дал бы тебе. Сам ты кладезь премудрости, и мне бесконечно жаль, что тратишь лучшие годы свои на сочинение исходящих бумаг... А твой талант? Где он? Неужто забыл все?
— Я ничего не забыл. Все, чему вы меня учили, помню. Я все тот же, только...
— Что?
— Трудно мне. Гнетет все. Ушел бы. Но куда?
Станиславский понимающе смотрел на юношу. Молча шел рядом, чуть не задевая свесившихся над заборами золотистых яблоневых ветвей, выбирал дорогу поровнее. Иван; такой же высокий, как и учитель, шел бок о бок с ним, не смея нарушить молчания неосторожным вопросом. Станиславский остановился на углу переулка и Пробойной.
— Сегодня я тебе смогу кое-что предложить, — сказал он. — Но сначала поговорим. — Глубоко вздохнул, расправил плечи. — Вечер-то какой — чудо! Не правда ли?
— Правда. Точно такой был и в тот раз, когда мы бродили по городу и читали. Помните?
— Ты особенно превосходно читал Вергилия. А Миклашевский — Овидия. Кстати, что с ним? Давно не видел.
— Федор? — Котляревский неопределенно пожал плечами. — Кажется, доволен своим делом. Столоначальнику пришлась по душе его работа, и он года через три получит место протоколиста. Ему обещали. Стоит подождать, покорпеть.
Станиславский долго молчал. Смутная тень бродила по лицу.
— Ну что ж... Feci quod potui...[4] Не каждому дано... Poeta nascitur, non fit[5]. Однако ты, Иване, вижу я, расстроен. И не токмо из-за Федора. Другое у тебя на сердце.
— Отче, ныне ранняя осень только начинается, это лучшая пора года, а мы же с вами не так стары... — Хотел пошутить, а вышло не совсем весело, сам почувствовал это и смутился, отвел глаза.
— Шутишь? — усмехнулся Станиславский. — Значит, переживешь печаль.
Под ногами шелестела опавшая листва, как вода на перекатах. Мимо промчалась легкая рессорная бричка. Чиновник, переходивший улицу, увидев священника, приподнял треуголку. И снова пустынно на углу Пробойной. Пустынно и тихо. И все же хороша Полтава в этот час, все в ней близко и дорого сердцу. Может, потому оно так и щемит.
— Муторно, отче... Простого казака за человека не считают, в неволю, как вола в ярмо, тянут, а язык его, язык дедов, матерей наших, наречием именуют... Как же после этого жить?
Станиславский, словно прислушиваясь к чему-то, взял Ивана под руку, сделал молча несколько шагов, затем посмотрел на Ивана зоркими и строгими глазами, как, бывало, в семинарии, когда случалось, что тот не успевал в полном объеме выполнить домашнего задания.
— Как смеешь, сыне, так думать, говорить так? Неужто и выхода нет? Неужто мыслишь: все достается человеку легко, без боя, без труда? Никогда подобного я своим ученикам не говорил, я каждый раз напоминал, что omne initium defficile est[6].
— Я помню, не забыл.
— Помнишь? Тогда слушай — да будет час этот благословен, — тебе предстоит сделать такое начало. Голова у тебя светлая, сердце к добру привержено.
— Что же мне надлежит сделать?
— Ты слушай песню народа нашего. Сердцем своим слушай! И сам пробуй. Пиши сам! Таланту своему не дай угаснуть. Все, что знаешь о народе своем, на язык высокой поэзии переложи. Как Сковорода! Но по-своему. Понеже — всякое уподобление хромает, как говорили в Риме.
— Смогу ли, отче?
— Сможешь. На такое душу надобно иметь сильную. Не каждый пойдет, а ты пойдешь. И тогда я буду считать, что жил не напрасно.
— Но это трудно. Немыслимо трудно.
— Per aspera ad astra[7] — произнес в вечерней тишине Станиславский. — Только через тернии. Других путей к звездам нет.
Ошеломленный, Иван молчал. То, что он услышал, было грандиозно, захватывало дух. Зачем же отец учитель — такой умный, знающий — требует невозможного?
— Не смогу, отче.
— Сможешь! Ты думай, день и ночь думай — и сможешь. Должен! Я ведь знаю тебя... С малых лет знаю, мы же с тобой — полтавцы!..
Они снова шли рядом. Тонкий в талии, высокий и стройный, Иван Котляревский и плотный, величественный — отец Иоанн Станиславский, преподаватель русской и латинской поэтики в местной семинарии.
Вышли к Успенскому собору. Тут рукой подать до дому. За звонницей — крыша видна, в окне — огонек теплится.
— Может, зайдете?.. Мать ждет с ужином. Вместе трапезу примем.
— Нет, не пойду. Поздно уже... И последнее, что хотел сказать. Приезжал ко мне на прошлой неделе землевладелец из-под Золотоноши. Просил найти учителя для сына. Я сразу подумал о тебе. Можешь ехать. Там будешь иметь стол, комнату и время для работы. Уча других, сам будешь учиться. И работать будет время. Где-то в тех же краях лет сорок тому учительствовал и Григорий Саввич Сковорода. Песни свои и философские трактаты сочинял... Ты будешь там, Иване, сын мой. Тем воздухом дышать будешь... Поклонись земле, что носила учителя.
— Поеду! Хоть сегодня!
— Почему не спрашиваешь об условиях?
— Мне все равно. Лишь бы уйти из канцелярии. На свежий воздух, на простор.
— Негоже так, Иване. Условия надо знать. И обговорить. И вот еще. Обязательно возьми, перед тем как ехать, у предводителя нашего пана Черныша бумагу, что состоишь в дворянстве. А то... Хотя помещик этот и знакомый мне, а запишет тебя в ревизскую сказку — и прощай, воля... Не забудь. И жди. Приедут за тобой... Может, на той неделе. На ярмарку пожалуют... Ну вот, сыне мой, и все. Матери кланяйся! Заждалась тебя, наверно.
— Ох, правда. Спасибо вам! За ваше добро!
— Спасибом не отбудешь. Помни слово мое, сыне!.. — Иоанн, вместо того чтобы положить крестное знамение, обнял юношу.
— Иди!..
Идти было недалеко. Обошел звонницу, собор, и — вот уже калитка. В темноте разглядел мать. Она стояла у крыльца — такая же высокая, тонкая, как сын. В темном платке, в удлиненной корсетке с зубцами, обведенными гарусной нитью.
— Мамо!
— Ты, Иване?.. Наверно, с хорошей вестью торопишься, потому и речь неспокойна.
— С вестью, — сказал Иван и подумал, что весть эта не особенно порадует мать: не всегда она с охотой расставалась с ним, хотя и не перечила ему, и на этот раз слова не скажет, но по взгляду, плотно сомкнутым устам нетрудно будет догадаться, как ей нелегко. Нет, сегодня он ничего не скажет ей. Лучше потом, а сегодня будет шутить, и она ни о чем не догадается и, может быть, не спросит. И в самом деле, он шутил, как в лучшие дни, рассказывал, что возле семинарии — «случайно свернул на ту улицу» — встретил отца Станиславского. Как же не поговорить? Вот и побеседовали — почти до петухов, хорошо, что не до третьих. Пусть мать не сердится. В другой раз он будет проворнее.