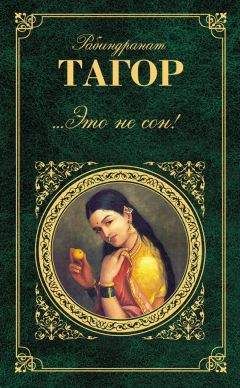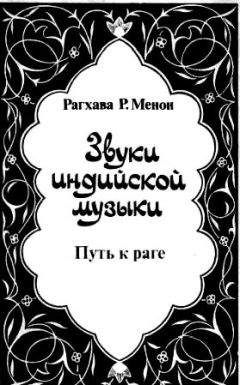Юрий Калещук - Непрочитанные письма
Лехмус добрался до площадки верхового и что-то орал оттуда, размахивая руками, как матрос-сигнальщик; ветер срывал его слова и отбрасывал в озеро — туда же, где бултыхалась в волнах зеленая панель бурукрытия. На остров вкатил красно-желтый агрегат геофизиков, из него выпрыгнули Китаев и Макарцев, направившись тотчас в разные стороны — один в культ-будку, другой к желобам растворной системы, на которые, честно говоря, не стоило и смотреть, чтобы поберечь нервы, — все стыки, развязки, уголки, переходы только лишь предстояло сварить. Я побрел в насосный сарай. Здесь тоже было довольно холодно, но Саня Вавилин с Пашей Макаровым этого, казалось, не замечали. Раздевшись по пояс, они ворочали немыслимые глыбы металла, уже приобретшие разумные формы, но пока лишенные жизни. Детали насосов надобно было очистить от грязи и накипи и соединить друг с другом так, чтобы они смогли дышать.
— Порядок, — сказал Вавилин, бросая кувалду. — Теперь маленько отравимся.
Укрывшись в закутке под желобами, мы затянулись сырыми кислыми сигаретами. Появился Лехмус. Щеки у него были багровые, борода заиндевела, глаза слезились, однако выражение лица невероятно довольное. Не иначе как подходящий кадр он себе вытопал, с пыхтением поднимаясь по шаткому трапу.
— Ну и ветер сегодня, — сипло произнес он.
— Да здесь всегда ветры свирепые, — отозвался Вавилин. — Особенно зимой.
— Ничего, — пробовал утешить его Лехмус. — Зато комара не будет...
— Комара? — изумился Вавилин. — Так зимой комар нас это... не беспокоят.
— Да пока ж только осень, — беспечно сказал Лехмус. А, — мотнул головой Вавилин. — Разве это осень?
— Саня, — спросил я. — Надолго еще осталось здесь подготовительных работ? Дня через два забуритесь, нет?
— Через два-а, — протянул Вавилин. — Навряд ли.
Он умолк, уткнувшись взором в две фигурки, которые стояли рядом с культбудкой и возбужденно жестикулировали. Появилась на острове еще одна машина, непривычно нарядный «уазик». До культбудки от нас было далеко, но иные порывы ветра доносили обрывки слов, однако чаще звуки сливались в высокую свистящую ноту: «И-и-и-и-и!..»
— Крикотерапия, — хмыкнул Вавилин. И пояснил: — Покричат Китаев с Усольцевым друг на друга — и вроде обоим им легче становится. — Он старательно затоптал окурок тяжелым разбитым сапогом, добавил: — А забуримся мы не раньше как через неделю... Вот так-то. — И бросил напарнику: — Пошли, Паша.
Горечью еще не подмерзшей рябины и бензиновой сладковатостью остывающих двигателей отдавал этот ветер. Низко над озером летел вертолет, но гул его не был слышен, оставаясь там, в близком оловянном небе. Громыхая большими, не по размеру, сапогами, прошел по эстакаде Макарцев; Юсупов с Кильдеевым готовили ствол для квадрата — Кильдеев вырезал газорезкой аккуратные треугольники на конце трубы. Юсупов загибал кувалдой теплые стальные лепестки; Китаев с Усольцевым уселись в «уазик» и рванули неведомо куда; неспешно шагал от столовой к своей машине водитель каротажного агрегата — видимо, тоже собирался уезжать: геофизики понадобятся здесь еще не скоро.
— Дон Альберто, — сказал я Лехмусу. — Давай-ка мы отсюда смотаемся. Хуже нет, чем у людей над душой стоять. Помочь им мы ничем не можем — так уж по крайней мере не будем мешать.
Лехмус долго молчал, потом произнес:
— Папа-Лех согласен. — Иногда в моем друге проявлялась трогательная потребность говорить о себе в третьем лице. — Но дальше-то что? Улетать?
— Да нет. Переждем неделю, займемся пока чем-нибудь другим...
— Чем?
— Поехали в редакцию. Подкинут нам идейку, уверен.
Впереди шел коренастый человек, тащил, часто меняя руку, ведро, над которым поднимался густой пар, и оживленно беседовал сам с собою:
— Ну надо же — до чего дошли! Такой бульон выливать, а? Руки-ноги за это отрывать надо. Вместе с головой.
— На кого ты так расшумелся, Ваня? — спросил я, когда мы догнали человека с ведром и помогли ему открыть тяжелую дверь с табличкой «Нижневартовская городская газета «Ленинское знамя».
Ваня Ясько, фоторепортер городской газеты, поставил на порог увесистое ведро, вытер пот с высокого лба и сердито произнес, отдышавшись:
— Да эти... из «Белоснежки». Представляете, до чего додумались? Сварили кур на продажу — ну, через кулинарию, — а бульон вылить решили! Надо же, а? Хорошо, я рядом случился... — И без перехода зачастил: — А вы вовремя угодили! Я сегодня как раз отвальную даю! Пошли!
— Какую отвальную? — спросил Лехмус.
— Все, уезжаю. К себе в Донецк возвращаюсь.
— Да ты уже возвращался однажды, — вспомнил я. — И отвальную давал. Ты мне все еще норовил проявитель вместо минералки налить.
— Закрепитель, — поправил Лехмус.
— Какая разница! Хорошо, Лехмус, ты тогда меня спас. Все ж таки — профессионал.
— Не, на этот раз точно, — упорствовал Ясько.
За разговорами мы дошли до фотолаборатории, узенького пенала, стараниями Вани Ясько приспособленного для съемки портретов, проявления пленок, печатания снимков и ряда других нужд; раньше здесь, кажется, был сортир, теперь — фотосалон, мастерская, а еще и банкетный зал «для узкого круга». Здесь, насколько я понял, и намечалась очередная «отвальная» Вани. В полумраке лаборатории я заметил Федю Богенчука и молоденького Володю Чижова, Фединого практиканта — его щеки светились таким победительным алым огнем здоровья, что Лехмус мог бы безбоязненно перезаряжать своя камеры.
— Э-хей! — приветствовал Богенчук. — Чингачгук Большой Змей! Лехмус Обской-Ямской!
С Федором я знаком подольше, чем с другими. Разве что с Лехмусом непутевая журналистская судьба столкнула нас в том же 1964-м, однако подружились мы позднее. Прекрасной осенью 1964 года я попал на Сахалин, прилетел в Оху и зашел в редакцию местной газеты, чтобы расспросить коллег о подробностях одной романтической истории, о которой узнал случайно на юге острова. Редактор, выслушав меня, сразу же заключил: «Вам нужен Богенчук. Про нефть и нефтяников он знает все», — и привел меня в крохотный кабинетик, убогое пространство которого занимал письменный стол. На низком подоконнике сидел вихрастый паренек, говорил по двум телефонам одновременно да еще быстро писал на узких полосках срыва. Когда телефонные трубки были водружены на место, полоски бумаги отправлены в машбюро, паренек протянул руку, сказал: «Богенчук» — и тут же воскликнул с непонятной мне торжественностью в голосе: «Видишь этот стол? На нем Глеб Горышин спал. То-то». Когда я заговорил с ним о деле, он тут же перебил меня и схватил телефонную трубку: «Все ясно. Тебе надо на Паромай. Сейчас в клубе идет пленум райкома партии. Баранов, парторг промысла, здесь, я с ним свяжусь — он тебя и захватит в Мухто, познакомит с Белоусом». Через час я уже ехал по узкой горбатой дороге, светила полная луна, но когда машина ныряла в распадок, нас окутывал густой туман, потом из-за бугра вылетела встречная машина, ослепила нас фарами, мы метнулись вправо, встречная — влево, и оказались в кюветах по разные стороны дороги, сначала дружно обматерили друг друга, затем дружно помогли друг другу выкарабкаться на колею и отправились каждый своим путем... От той поездки в голове у меня осталась пестрая мешанина впечатлений и стойкое ощущение собственной профессиональной несостоятельности: впечатления были разрозненны, прихотливы, бессвязны, старательно записанные диалоги пусты и невнятны, суть дела осталась непостижима, романтический флер легенды, услышанной на юге острова, оказался размыт жесткой прозой производственно-технологического конфликта. Через две недели я вернулся в Оху, уже начинался сезон метелей, и я застрял в этом городке на несколько дней; самолеты летали редко и робко. Эти дни мы проводили вместе с Богенчуком: он был всего на год старше меня по возрасту, а по знаниям превосходил недобрый десяток лет; и еще жила в нем неистребимая убежденность, что ты можешь, должен мочь, уметь, а потому обязан сделать все, что зависит от тебя на этой земле. И последствии я еще не раз бывал на Сахалине, выслушал о Богенчуке множество мифов и легенд, одна из которых повествовала о героическом рейде охинских газетчиков, во главе с Федей, на мотоциклах к крайней северной точке острова, мысу Елизаветы; мотоциклы, правда, пришлось бросить по дороге, потому что большую часть пути надо было пробираться по узкой тропе, ограниченной скалами и прибоем, — но самого Федора больше я не встречал, и никто не мог объяснить мне толком, куда он исчез... Оказавшись в феврале 1973-го в Нижневартовске, я забрел в редакцию «Ленинского знамени» полистать подшивку да потолковать со знающими людьми и неожиданно наткнулся в одном из газетных номеров на репортаж, подписанный «Ф. Богенчук». «А как зовут этого Эф Богенчука? — спросил я. — Феликс? Феофан? Федор?» — «Федор», — ответили мне. «А он случайно на Сахалине не работал?» — «Да». — «Где же он сейчас?» — «В командировке. Завтра должен прилететь». И назавтра он прилетел — это был прежний Федя Богенчук, с изрядно поредевшей шевелюрой, но с той же неугомонностью в замыслах и поступках. В каждый приезд мы теперь непременно встречались. У Федора была удивительная черта — про здешние дела он знал все и считал своим долгом передать другим свое знание.