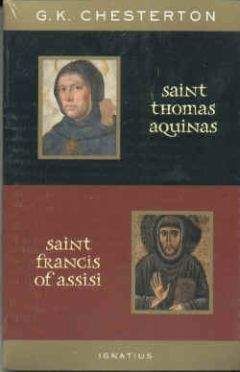Криста Вольф - Расколотое небо
Именно это и напомнил ему Вендланд.
— Вовсе не обязательно любой ценой дожидаться, чтобы дело, которое тебе не по плечу, тебя же угробило. Это, к сожалению, моя доля, — добавил он шутливо. — Что же касается вашего отца… Мне кажется, он сейчас на своем месте.
Вендланд изо всех сил пролагал Манфреду путь к отступлению, но тот и не собирался этим воспользоваться. Кто мог предположить, что смещение отца так уязвит его? Не желая показать это, он только осложнял положение.
— Ах, вот как, — буркнул он. — Старая песня: мавр сделал свое дело…
Конечно, ему не пристало выступать защитником своего отца. Это было бы смешно. Тем не менее он позволит себе один вопрос: в чем польза столь распространенного нынче недоверия, называемого бдительностью?
— Вы смешиваете разные понятия, — мягко сказал Вендланд.
Но эта мягкость Манфреду сейчас была ни к чему.
— Вот как? Я смешиваю. Может быть, мне недоступна трезвость научного мышления. Но юмор, заключенный в известных противоречиях, мне вполне доступен. К примеру — в противоречиях между средством и целью.
— Конечно, — сказал Вендланд. — Часто бывает трудно согласовать то и другое.
— Скажите лучше — невозможно, — подхватил его мысль Манфред. — Честность украшает человека.
— Украсила бы и тебя! — возбужденно выкрикнула Рита.
Манфред держал себя в руках. Поклонившись ей, он холодно ответил:
— Постараюсь быть честным. — А затем, обратившись к Вендланду, продолжал: — Мне кажется, меня здесь неверно понимают и рассматривают как обвинителя. Мне подобное и в голову не приходит! Я лишь сожалею о той бездне иллюзий и энергии, которые расточаются на невозможное. Сделать наш мир высоконравственным! Ведь вы этого хотите, не так ли?
— От этого зависит существование человечества, — ответил Вендланд.
— Именно, — согласился Манфред. — Последняя его надежда. И, кажется, разбитая, судя по всему. В один прекрасный день вам придется это признать.
Вендланд выпрямился и ответил с необычайной для него резкостью:
— А зачем вам, собственно говоря, этот заслон?
Рита испугалась, хоть и не понимала сути спора. Манфред понял, но не испугался. Он явно одобрял остроту ума Вендланда и все же с обиженным видом снова нацепил на себя свою маску.
— Заслон? — переспросил он. — Не понимаю, что вы имеете в виду. Я говорю о накопленном опыте. Об опыте… с человечностью. Если уж быть откровенным, вспомните: корыстолюбие, эгоизм, недоверие, зависть — вот чего хоть отбавляй. Добрые старые наши привычки времен каменного века. Но человечность?
— Да ведь и грязь за собой таскаешь, покуда она может пригодиться, — сказал Вендланд. — Только ненависть еще долго будет нам нужна…
— А любовь? — робко спросила Рита. — Оборотная сторона ненависти?
Без видимой причины краска залила лицо Вендланда.
— Любовь говорит сама за себя, — сказал он.
Манфред встал.
— Для великой любви я, кажется, не создан, — грубо бросил он.
Пройдет немало дней, и однажды Вендланд скажет Рите:
— Странно, часто кажется, что в запасе еще уйма времени и что ты всегда успеешь в чем-то навести порядок. Как же я тогда не понял…
Прежде чем сесть в вагон (новый паровоз уже подали), Манфред еще раз обернулся — они увидели его лицо, жалкое и несчастное, и поняли: он не выносит, когда слово «любовь», безразлично в какой связи, говорят друг другу Рита и Вендланд.
— Да! — с горечью воскликнул он. — Долой румяна! Великая любовь, звонкие фразы… Сотрем же наконец румяна! Это единственное, что нам остается.
Рита словно онемела от жалости и печали. Она знала: больнее всего он ранил самого себя.
Когда они вечером вернулись домой, он прошел, не останавливаясь, мимо квартиры родителей, где их ждал ужин, и сразу повел ее в чердачную комнатку. Там, подойдя к окну, в рамке которого в розовых облаках пламенело заходящее солнце, он взял в обе ладони ее лицо и внимательно посмотрел ей в глаза. Ни капли высокомерия или вызова.
— Чего ты ищешь? — со страхом спросила Рита.
— Точку опоры, — ответил он. — Она необходима человеку, чтобы не погибнуть…
— И ты ищешь ее у меня?
— А где же еще?
— Значит, ты не был во мне уверен?
— Нет, был. Всегда внушай мне уверенность. Моя золотистая девочка… Договорились?
— Конечно, договорились.
Оба закрыли глаза. Надолго ли и от каких ударов судьбы могла их спасти любовь?
24
Май в том году выдался холодный. Обманутые в своей давно накопившейся жажде тепла, обыватели ворчливо подтапливали печи: в садах понапрасну опадал цвет с плодовых деревьев. Ветер сметал в сточную канаву снег лепестков. Но все это — холод, печально кружащий бесплодный снег лепестков и даже пронизывающий ветер — не могло быть причиной того, что душа холодела от страха и тоски.
Теперь Рита хорошо знала город. Закрыв глаза, она до мельчайших подробностей видела перед собой его улицы и площади — так запечатлеваются в памяти картины, виденные и перевиденные сотни раз. В свете этих майских дней город казался ей чужим.
От низкого, затянутого тучами неба исходила неопределенная угроза, а откуда-то снизу, казалось, поднимается мутная волна лжи, глупости и предательства. До поры до времени она таилась под спудом, но скоро неминуемо просочится на улицы через щели в домах и подвальные окошки. Глубокое щемящее беспокойство прорывалось кое у кого злобным брюзжанием и ожесточенной руганью в переполненных трамваях. Тревожило Риту и настороженное, сосредоточенное внимание, с каким Эрвин Шварценбах входил теперь в аудиторию. Казалось, он ежеминутно готов встретить любую неожиданность и дать нужный отпор. Он был еще отзывчивее и в то же время требовательнее к своим студентам, с непривычной суровостью пресекая малейший признак расхлябанности.
Но хуже всего была перемена, происшедшая в Манфреде. После пережитого он весь ушел в свои обиды и страхи. Лишь возле нее, возле Риты, ему иногда мучительно хотелось погоревать по-настоящему…
Ее одну он еще как-то щадил, а к родителям проявлял откровенную ненависть. Каждый вечер, сидя под висячей лампой за герфуртовским обеденным столом, Рита была готова к чему угодно. Она не замечала, какие кушанья ест, не слышала вялых застольных разговоров. В ее ушах раздавался только по-актерски гибкий голос диктора («свободный голос свободного мира»), чьи вещания фрау Герфурт воспринимала точно евангельские заповеди. Как знать, когда этот голос перестанет лить елей и рявкнет по-начальнически, от обещаний перейдет к угрозам?
Рита поднимала взгляд от тарелки и видела лица остальных членов семьи: нервное, возбужденное поблескивание в глазах фрау Герфурт, безвольное равнодушие господина Герфурта, затаенную ненависть Манфреда.
Маски сброшены, оставлены попытки поддержать светскую беседу.
Голая вражда.
Еще только раз все вырвалось наружу, когда Манфред безжалостно припер отца к стенке и тот вынужден был признаться: да, я больше не заместитель директора. Да, я теперь бухгалтер. Фрау Герфурт схватилась за сердце и с плачем выбежала из комнаты. Манфред продолжал язвить. Наконец Рита резко одернула его. Он замолчал на полуслове и вышел из комнаты. Рита осталась одна с его отцом. Господин Герфурт жалобно посмотрел на нее, даже не пытаясь спасти последние крохи своей бравой выправки.
— Мне кажется, вы добрый человек, фрейлейн Рита, — сказал он. — Объясните мне, чем я это заслужил?
— И тебя трогает это вечное нытье беззубых старцев, которые не желают пожинать то, что посеяли? — презрительно спросил ее вечером Манфред. — Ведь их беспомощность тоже орудие шантажа. Жалость? У меня ее не ищи.
— Твоя мать чем-то больна, — настаивала Рита, — она тайком принимает капли.
— С тех пор как я себя помню, моя мать была истеричкой.
— Давай переберемся отсюда.
— Куда? — уныло спросил он. Ему теперь все было безразлично.
Она хотела сказать: «Мне страшно. Здесь я тебя потеряю». А вместо этого сказала:
— Ты окончательно разрушаешь семью.
— Да, но я не намерен хотя бы дома терпеть лицемерие и молчать.
— Потому что твои домашние слабее тебя.
Он с изумлением взглянул на нее.
— Возможно! Я не страстотерпец.
— Почти то же самое я однажды сказала Мартину: он не герой.
Это было очень смело с ее стороны. Он только рассмеялся.
— Ты умница, — сказал он. — Только об одном ты забываешь — нам, одиночкам, трудно быть героями в наш негероический век.
— А Мартин? — спросила она.
— Мартин по молодости лет пытался плыть против течения. Но его пыл уже остудили. В следующий раз он подумает, прежде чем действовать.
— А если нет? Если справедливость ему дороже всего?
— Тогда он не герой, а попросту болван, — оборвал ее Манфред.