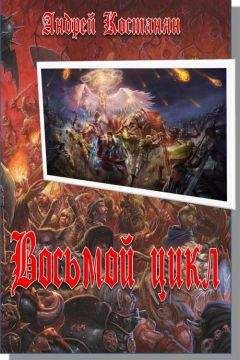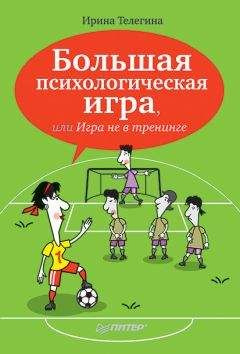Вениамин Каверин - Двойной портрет
— Ох, устал. Завтра расскажу, — сказал, вернувшись домой, Валерий Павлович. — Алеша спит?
— Да.
Он выслушал восторженный отчет о новых звонках по поводу опровержения.
— Как его дела?
Мария Ивановна не сразу поняла, что муж снова спросил об Алеше.
— Все в порядке.
— Ты говорила, что он роздал марки?
— Да. Он почему-то потерял интерес к маркам. Может быть, просто вырос?
— А вот ты однажды сказала: «Его нельзя узнать». В каком смысле?
— Я так сказала? Не помню. Почему ты заинтересовался?
— Просто так. Как он учится?
— Хорошо. У него только по истории тройка. Ты будешь ужинать?
— Нет.
Они пожелали друг другу спокойной ночи.
Валерий Павлович принял снотворное, переоделся, но не стал ложиться, а, почитав немного, прошел к сыну. В Алешиной комнате было прохладно, форточка открыта, лампочка уютно светилась в глубине стоявшего на ночном столике молочного, матового шара. Мальчик спал в странной, неудобной позе, которую Мария Ивановна считала полезной — на спине, с лежащими поверх одеяла руками. Руки были длинные, узкие, и все тело мальчишески узкое, вытянувшееся под тонким одеялом. Грудь поднималась чуть заметно.
Наклонившись над постелью, Снегирев внимательно смотрел на Алешу. Так он простоял долго, сам не зная зачем и ничего, кажется, не желая. Вдруг веки у мальчика дрогнули.
— Спишь? — чуть слышно спросил Валерий Павлович.
Веки все дрожали, но теперь уже как-то иначе, чем прежде.
Валерий Павлович быстро выпрямился. Ему стало страшно; холод пробежал по спине, сердце пропустило удар, забилось быстро и опять пропустило.
Теперь он наверное знал, что Алеша не спит, но спросить его снова было уже невозможно.
Он на цыпочках вышел из комнаты, лег и вздохнул. Воспоминание дня медленно прошло перед глазами. Который час? Половина второго. Все хорошо. Найдите плавающие перед закрытыми глазами цветные пятна, вглядитесь в них, дышите ровно — и вы незаметно уснете. Не старайтесь уснуть, не думайте о бессоннице. Не беда, что вы не спите эту ночь, она будет лекарством для следующей. Человек не может не спать. «Все хорошо, — говорил старый доктор, лечивший его от бессонницы. — И с каждым днем становится лучше и лучше». Повторяйте эту фразу, пока не уснете. «Все хорошо, и с каждым днем...»
61
Толстые папки с бумагами, которые принес мне из редакции Кузин, прочно легли в ящик моего письменного стола — устроились надолго. Жизнь, застывшая, нашедшая свое воплощение в доносах, продиктованных злобой и страхом, в скрестившихся, поражающих своей непримиримостью письмах, отошла, отшумела, и на смену ей явилась другая жизнь, с другими волнениями и заботами. Но что-то осталось. Было ли это воспоминание о проводах Остроградского? Или чувство острой потери, хотя я почти не знал его, едва перекинулся несколькими словами? Или другое воспоминание — прозрачный, точно вырезанный кольцом на стекле профиль молодой женщины, оцепеневшей от горя? Молодежь, долго не покидавшая могилу? Не знаю.
Осталось то, что заставило меня поехать в Ленинскую библиотеку и вернуться с книгами Остроградского. Я не стал читать их, это были специальные труды, главным образом по ихтиологии. Но я перелистал их, как бы прислушиваясь к затаенной ноте, которая вела меня за собой, среди сложных, требующих специальной подготовки изысканий. Она легко нашлась в его книге о географических ландшафтах, которая была полна живописным пониманием русской природы. В статье «Где искать Атлантиду» я встретил мысль, что в каждой науке есть своя Атлантида, что догадка, кажущаяся фантастической, подчас важнее, чем строго логический путь. Но чем старательнее пробивался я через трудные страницы, тем больше хотелось увидеть за ними живого человека, знаменитого и неизвестного, с простой и сложной судьбой. Кто мог бы рассказать мне о нем? Я позвонил Кузину и попросил его привести ко мне Лепесткова.
— Он сейчас не может. Очень занят.
И Кузин объяснил, что Ольга Прохоровна в больнице, Лепестков ездит к ней каждый день.
Прошла неделя, и я повторил свою просьбу.
— Его нет в Москве.
Я знал, что Лепестков просился в антарктическую экспедицию.
— И нескоро вернется?
— Почему нескоро? Он поехал за девочкой на Тузлинскую косу.
Я спросил, как здоровье Ольги Прохоровны.
— Не очень, но она уже дома. Я вам говорил, что приезжала женщина из Загорска?
— Нет. Какая женщина?
— У которой был прописан Остроградский. Она искала его.
Зачем?
— Привезла реабилитацию. То есть не реабилитацию, а письмо из Верховного суда. Просят зайти за бумагами.
Через несколько дней он позвонил и сказал, что придет с Лепестковым.
— У него теперь много времени. Он ушел из ВНИРО.
Кузин ходил, хватаясь за живот, вогнутый, как в кривом зеркале, желтый и злой. Придя ко мне, он лег на диван и попросил грелку.
— Почему бы вам не полечиться голодом? Говорят, верное средство.
— Спасибо!
Он лечился у знаменитой аллопатки-гомеопатки, которая запретила ему сыр, а потом сказала, хлопнув себя по колену, что она умерла бы, если бы ей запретили сыр.
Лепестков опоздал. Он спешил, вьющиеся волосы еще больше завились и потемнели от пота. Теперь он был похож на фавна, но на очень русского фавна, в широких бесформенных штанах и в ковбойке с закатанными рукавами.
Я предложил ему вина. Он отказался.
— Жарко. Если можно, воды. Холодной, из крана.
Мы немного поговорили о кузинской язве.
— Лучше расскажите, что вы натворили, — ворчливо сказал Кузин.
— Ничего не натворил.
Выступая на заседании институтского совета, Лепестков прочитал первую главу своей книги. Обсуждение продолжалось два дня и кончилось тем, что он ушел из института.
— Значит, в Антарктику вы уже не поедете?
— Нет. Хотя это, без сомнения, устроило бы моих оппонентов.
— Где же вы будете работать?
— Вы же знаете.
— Говорите, говорите, — сердито закричал Кузин.
Лепестков засмеялся.
— Гладышев предложил мне лабораторию в Днищеве, — сказал он мне.
— И вы согласились?
— Почему бы нет? Теперь можно многое сделать.
Он знал, что мне хотелось поговорить об Остроградском, и начал рассказывать, сперва медленно, потом свободно и живо:
— Прочтите его последнюю работу в «Зоологическом журнале». Это трудно, но я помогу. Мы с Кошкиным сейчас приготовили памятку — список трудов Анатолия Осиповича с двумя вступительными статьями. Одна из них — моя. Там же и литература о нем. Осталось еще составить список животных и растений, названных в его честь.
— Рыбы?
— Главным образом. Но есть и бабочки. Я вам пришлю, когда выйдет.
Мы вышли на балкон, с которого открывался странный вид на Москву — сохранившиеся разгороженные садики Замоскворечья, а вдали черные, поднятые к небу, похожие на гигантские саксофоны, трубы Могэса. Мы поговорили об этом контрасте, а потом вернулись к Остроградскому. Я не записывал, знал, что запомню.
— У меня сегодня мало времени, — сказал Лепестков, глядя на меня своими сразу и твердыми и мягкими глазами, — и я расскажу только о том, как пришел к Анатолию Осиповичу в первый раз.
Но он рассказывал долго. Стемнело, зажглись фонари. Прошел короткий дождь, опять стало душно.
...Двойной портрет вдруг представился мне: Снегирев — Остроградский, и в глубине — бесконечно далекие друг от друга люди, вглядывающиеся в будущее с ожиданием и тревогой. И, слушая Лепесткова, я думал о том, что и я был обманут и без вины виноват и наказан унижением и страхом. И я верил и не верил и упрямо работал, оступаясь на каждом шагу, и путался в противоречиях, доказывая себе, что ложь — это правда. И я тосковал, стараясь забыть тяжкие сны, в которых приходилось мириться с бессмысленностью, хитрить и лицемерить.
Вечер еще медлил, потом уступил, тяжелая медно-красная заря над Москвой потускнела, растаяла, и пришла ночь, пронизанная предчувствиями, исполненная надеждами летняя ночь.
1963 — 1964
Примечания
1
В действительности эта идея и ее практическое воплощение принадлежат известному зоологу и гидробиологу Л. А. Зенкевичу.