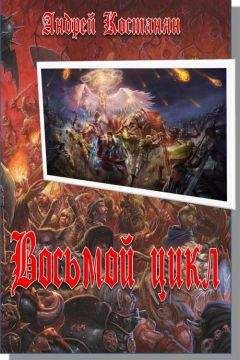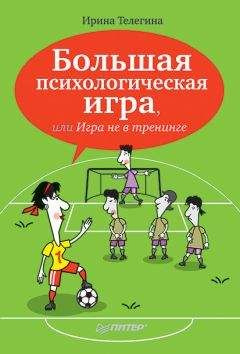Вениамин Каверин - Двойной портрет
Надо было вставать, а он все плыл куда-то в тишине, в тесноте набегающих мыслей. Он плыл не только потому, что не хотелось вставать, но еще и потому, что ему непременно хотелось доказать себе, что сейчас он встанет и поедет в Русиново и что на станции его встретят Ирина и Маша. Но что-то уже случилось с Русиновым, с теннисной ракеткой, с одинаковыми красными платьями, с Гришей. Что-то путалось, не доказывалось, скользило. И соскользнуло бы, если бы он отпустил от себя это утро. Он не отпустил. Он приехал в Русиново, Ирина с Машенькой встретили его и сразу стали рассказывать что-то смешное. О дачной хозяйке, которая завивается на ночь. О толстом мальчишке, который целый день катается на велосипеде. Кажется, в этот день Ирина сказала ему: «Когда все так хорошо, становится страшно». Соскользнуло. Он вернул. Кажется, в этот день... Опять соскользнуло. Он заговорил с Машенькой, чтобы снова вернуть этот день, но это была уже другая девочка, беленькая, худенькая, с косичками, которая, слушая его, делала что-то быстрыми, ловкими ручками. Все было уже не то и не так.
Он лежал на раскладушке, в маленькой комнате, со срезанным, летящим на него потолком. Он ночевал у тети Лизы, в доме на Петровке, где жил до ареста. Он проснулся и должен был незаметно уйти, положив ключ в условленное место.
52
Дел было много. Проваторов просил его принять участие в подготовке антарктической экспедиции, и два сотрудника ВНИРО уже работали по его указаниям. Людмила Васильевна Баева закончила экспериментальную часть докторской, а с выводами что-то не получалось.
Но главное дело — если не считать реабилитации — было связано с одной возможностью, вдруг открывшейся и, кажется, единственной в его положении. Еще в феврале, когда оказалось, что Юра Челпанов очень близко подошел к теории, которую Остроградский обдумывал в лагере, они решили вместе поставить работу в Юриной лаборатории — маленькой, но располагавшей редким, новейшим прибором. Это было смело и даже рискованно, потому что догадка Остроградского не имела ничего общего с планом лаборатории. Вечером он должен был встретиться с Юрой у Кошкина.
— Но возможно, — сказал загадочно Иван Александрович, — что будет и еще кое-кто.
Этот «кое-кто» был, без сомнения, Гладышев, с которым Кошкин давно собирался его познакомить.
Были и другие дела, тоже важные: позвонить прокурору, получить деньги в Институте информации, отправить деньги хозяйке комнаты под Загорском, зайти в парикмахерскую и наконец купить новый костюм.
Он получил и послал деньги, позвонил раз пять прокурору, не дозвонился и зашел в ЦУМ. Мужские костюмы продавались на третьем этаже. В очереди было много женщин — должно быть, покупали для сыновей и мужей. Остроградский стал вспоминать свой номер. Кажется, пятидесятый, третий рост?
— Которые не знают свой размер, должны ходить с женами. А холостые — с мамами, — поучительно сказал продавец.
Конечно, разумнее было бы купить темный двубортный на лето и зиму. Но ему захотелось купить светлый, однобортный. «Не по возрасту, черт побери, — подумал он, глядя на себя в маленькой примерочной, состоявшей из легких шелковых штор. — Но ведь сказала же Ольга, что я какой-то нестарый?..» Он примерил темный. Тоже недурно. Гм, гм...
Он еще выбирал бы, пожалуй, если бы не знал заранее, что в конце концов все равно купит светлый костюм.
Он надел его и стал бродить по ЦУМу, размышляя над тем, что ему в последний раз сказал Юра Челпанов. Юра сказал, что одно из предположений проверить пока невозможно. Но это была та невозможность, с которой надо было обращаться умно. С нежностью, но умело. Эта была невозможность, которую надо было понять, как женщину. И, кажется, это уже произошло — быть может, когда он выбирал костюм или звонил в прокуратуру? Кстати, позвоню-ка я снова. Прокурор пошел обедать. Рано обедает прокурор — четверть второго. Остроградский ходил, посвистывая, и вдруг купил для Ольги шелковую театральную сумочку, хорошенькую, с цепочкой. Теперь денег осталось мало, но он подумал и купил еще шляпу, а кепку сунул в пакет со старым костюмом.
Пожалуй, теперь нельзя было сказать, что он похож на нереабилитированного, непрописанного в Москве, не соблюдающего паспортный режим гражданина.
53
В парикмахерской было душно. Заняв очередь, он стал перебирать лежавшие на столе старые газеты и сразу наткнулся в «Научной жизни» на маленькую заметку «От редакции», спрятавшуюся (или спрятанную?) среди читательских писем. Это было «опровержение» — то самое, которого так боялся Миша Лепестков. Напрасно боялся! Опровержение — если можно было так назвать напечатанную нонпарелью замётку — было написано невнятно, приблизительно, глухо: Снегирев — не невежда, редакция сожалеет, проблема заслуживает глубокого изучения. Пожалуй, в заметке было даже что-то неуловимо-обидное для Снегирева. Она означала... Он как бы взглянул на весь газетный лист одним отвлеченным взглядом. Она ничего не означала.
...Он чуть не пропустил свою очередь, зачитавшись статьей в «Известиях», которая не могла появиться месяц или два тому назад и за которую до марта 1953 года дали бы лет десять.
— Под полечку? -— спросил парикмахер.
— Да. «Нет, не десятку, а все двадцать пять, — подумал Остроградский. — И не где-нибудь, а в каком-нибудь Джезказгане».
— Бриться будем?
— Пожалуйста.
Из парикмахерской он снова позвонил и снова не добрался до понравившегося ему прокурора. Секретарша, которая ничего не знала о деле, разговаривала грубо.
Два часа. Он знал, что даже если он пойдет очень медленно и будет останавливаться у каждой витрины, ноги все равно принесут его раньше — не в три, а, скажем, без четверти три. Ноги всегда приносили его раньше, потому что даже ждать Ольгу, зная, что она непременно придет, было наслажденьем.
Они виделись теперь почти каждый день, но по-прежнему на улицах, потому что на Кадашевской поселился какой-то тип, уволенный из охраны, и Ольга его боялась.
...И на этот раз ноги принесли его к ней на двадцать минут раньше, хотя из парикмахерской он пошел не направо к Библиотеке иностранной литературы, а налево. Ольга ахнула и засмеялась, увидев его. Остроградский с гордостью поджал губы. Она была в синем халате, быстрая, торопившаяся кончить к его приходу работу, прелестная со своей разваливающейся прической. В комнату ежеминутно заходила ее помощница Лена, и Остроградский чинно уселся в углу, положив пакет со старым костюмом на колени.
— Можно оставить его у тебя? — спросил он, когда помощница вышла.
— Конечно.
И она спрятала пакет в шкаф, «а то Лена, пожалуй, отправит его куда-нибудь на Цейлон, вместе с нашими бандеролями».
— Мне нравится смотреть, как ты работаешь, — сказал Остроградский. — Почему ты смеешься? — спросил он, когда они вышли на улицу.
— Нет, ничего. Лена говорит, что ты — интересный.
— Ну, конечно, еще бы! Как костюм?
Он знал, что ей хотелось сказать, что напрасно он не купил темный костюм, — и действительно эти слова уже были у нее на языке. Но он знал и то, что она промолчит, не желая огорчать его, — и она промолчала. Но что ей не нужна дорогая театральная сумочка — он не догадался может быть потому, что не знал, что она театральная. Ольга поблагодарила его и сказала, что мечтала как раз о такой. К этой сумочке была нужна еще одна, взамен той, давно истрепанной, с которой она ходила и в магазин и на работу.
— Куда мы сегодня?
У них были «хозяйственные» прогулки, когда Ольга покупала, а Остроградский, который терпеть не мог магазинов, помогал ей, занимая очередь и стараясь не перепутать чеки — и это тоже нравилось ему, потому что Ольга его все время жалела. А были и настоящие, далекие, когда они уходили куда-нибудь в Останкино или на Ленинские горы, вдоль Москвы-реки, по которым гоняли свои остроносые лодки серьезные, сосредоточенные юноши и девушки, ритмично сгибая загорелые спины. Остроградский наслаждался. Он любил Москву.
— Сегодня мы поедем... Не скажу, куда и зачем.
— Почему?
— Нельзя. Ты голодный?
— Не очень.
— Можешь потерпеть?
— Да.
54
Ольга отказалась от комнаты в старом деревянном доме на Четвертой Мещанской и теперь хотела, чтобы Остроградский одобрил ее решение взять комнату, которую ей предложили в новом строящемся районе.
Они проехали в метро, потом автобусом, потом — с конечной остановки — пошли пешком по развороченной, неасфальтированной дороге. Рычащие грузовики ныряли по ухабам. Везде были краны, медленно, кругло поворачивающиеся, с опасной легкостью проносящие по воздуху какие-то грузы, похожие на гигантские карточные колоды.
К дому, почти законченному, но еще в лесах, было трудно подойти, но они все-таки подошли и, нырнув под доски, загородившие крест-накрест только что отделанную лестницу, поднялись на седьмой этаж.
— Задохнулся?
— Нет.