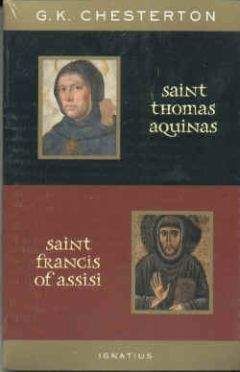Криста Вольф - Расколотое небо
Я очень тороплюсь. На заводе как раз работает партийная комиссия. Она заинтересовалась нашей машиной. Неужели Манфред не мог потерпеть еще восемь месяцев? Обиднее всего, когда подумаешь: останься он, пусть против воли, ему удалось бы сделать над собой усилие, переломить себя. Теперь бы ему не уклониться…
Эх, об этом я, собственно говоря, и писать не хотел.
Будьте здоровы!
Мартин
Рита держит это письмо в руке. Она лежит тихо-тихо и смотрит в потолок, прослеживая взглядом орнамент трещин и пятен сырости, который уже знает в точности.
Мартин был бы ему хорошим другом, а я — хорошей женой. До конца наших дней. В этом я убеждена. Он знал это, иначе не вернулся бы из 3. таким несчастным, хуже чем отвергнутым — без грана надежды на успех.
Во всяком случае, несчастье в последний раз сблизило их. Усталый, он с возмущением рассказывал ей о заговоре, на который они натолкнулись в 3., о холоде и недоверии у всех, кому они пытались довериться. Как ни странно, не Манфред, а Мартин стал действовать безрассудно, грубо и неумно. Рита догадалась о причине: Мартин ради Манфреда пустил в ход все средства. Он понимал, на что этот печальный опыт толкает друга, в любом отношении куда хуже вооруженного, чем он. Рита серьезно встревожилась, когда услышала о приступах ярости и диких выходках Мартина.
Неделю-другую после приезда Манфред пролежал с гриппом. Это ему, кажется, только и было нужно. Он много читал, особенно часто перечитывал молодого Гейне. «Но знать хотел бы я, со смертью куда уносится наш дух? И где тот ветер, что затихнул, и где тот пламень, что потух?»[2]
— Гейне тоже нелегко было с его добрыми немцами, — сказал он как-то.
— Наоборот, — поправила его Рита. — Это немцам было нелегко с ним.
Манфред улыбнулся. Он теперь часто подсмеивался над ней, как взрослые подсмеиваются над детьми. Она молчала. Тогда она еще не боялась ни за него, ни за себя. А он, быть может, втайне уже сделал выбор и всю свою энергию направлял на то, чтобы загубить и себя и ее?
Явное торжество его матери должно бы насторожить Риту. Правда, немыслимо было себе представить, чтобы Манфред говорил матери о своих переживаниях, но, возможно, она инстинктивно поняла его состояние. Когда Риты не было дома, она живо проскальзывала к сыну и была счастлива, что он, беспомощный, снова зависит от нее. Стоило Рите вернуться, и он начинал капризничать, как избалованное дитя. Рита потешалась над ним, но он всерьез жаловался на свою несчастную судьбу и не поддерживал ее тона.
Однако когда Мартина исключили из института, его мрачное настроение перешло в неприкрытую отчужденность и едкий сарказм. Во время последнего откровенного разговора с Ритой он признался, что ходил к Руди Швабе замолвить слово за Мартина.
— Для себя самого я бы этого никогда не сделал! — сказал Манфред.
Он вернулся в состоянии полнейшего отчаяния и вместе с тем какого-то злобного удовлетворения, что было для него совершенно ново. Удивительно, он был даже доволен, что Руди Швабе показал себя именно таким трусом, каким он с некоторых пор его считал.
— Надо было видеть, как он на меня глянул, когда я сказал, что Мартин мой друг! Словно противоестественно называться другом отверженного! «Твой друг? Так, так… К сожалению, мы обязаны отчислить его. Последние события на заводе… Во всяком случае, он еще не созрел для учебы. Но ты ведь знаешь: мы не дадим пропасть ни одному человеку». И так далее, и тому подобное. Все знакомые песни. А сам даже не слушает, что ему говорят. Я говорил и говорил до дурноты. А он даже не смеет слушать. Ему и дела нет до какого-то там Мартина Юнга. Думаешь, он сидел бы на своем месте, если бы прежде всего не зарубил себе на носу: не колеблясь выполнять любое указание?
— Но что же, вообще-то говоря, случилось с Мартином? — спросила Рита.
Что с ним случилось? Нервы не выдержали. На общем собрании он встал и сказал им прямо в лицо, кто они такие: интриганы, тупицы, волокитчики. Подобное поведение наказуемо. А господин Швабе — исполнительный орган.
— До чего же мне все это противно!
Мартина исключили. Но так как, кроме Манфреда, его почти никто не знал, это прошло незамеченным. Не поднимая шума, остался он на своем месте — это далось ему нелегко, особенно потому, что неизвестно было, сколько еще все это может продлиться. В такой ситуации восемь месяцев могут показаться бесконечными, подумала Рита. Но он держался молодцом. Манфреду это не удалось. Восемь месяцев для него оказались в самом деле бесконечными.
Не знаю, думает Рита, когда он окончательно решил, что его жизнь невыносима. Не знаю, когда мы потеряли контакт. Первые признаки я проглядела. Я слишком была уверена в нем. Я обманывала себя, снова и снова повторяя: что бы ни случилось, мы любим друг друга. Он имел все основания верить в это «что бы ни случилось».
Рита все еще держит письма Мартина в руке. День угасает. Она поднимается и кладет письмо в ящик ночного столика.
Куда деваться от этих гложущих, невысказанных упреков!
23
Вскоре после того, как Манфред, здоровый и внешне почти не изменившийся, снова начал работать в институте, ему позвонил Вендланд. Он пригласил их обоих, его и Риту, принять участие в испытании нового, облегченного вагона. Манфред колебался. Ее он приглашает, не меня, подумал он. Но все же согласился.
Рита чувствовала — он только и ждет, что она скажет: «Останемся дома». Но она этого не сказала.
Сырым прохладным апрельским утром 1961 года они, как было условлено, поехали на завод. Впервые в жизни вместе прошли по тополевой аллее, безлюдной в этот час, так как первая смена уже работала. Ветер, как всегда здесь, дул им в лицо, Рита подняла воротник пальто и сунула руку в карман Манфреду: пусть поймет, что ей холодно, и обнимет за плечи. Она прижалась к нему, стараясь шагать в ногу, и на ходу потерлась головой о его плечо. Откуда-то издалека им навстречу мчался мальчишка на самокате. Он оттолкнулся и стремительно пронесся мимо них, издавая ликующий крик радости. Крик этот эхом отозвался в душе Риты.
— Кажется, действительно пришла весна, — сказала она, глубоко вздохнув.
— Это тебя удивляет? — спросил Манфред.
Она только кивнула, ни словом не обмолвившись о тех мыслях, что мелькали у нее в голове. Никогда еще не тосковала она так по теплу, простору, движению, свету. Ах, этот вечный и неизменный ритм ее дней: хождение в институт, лекции, разговоры, споры, экзамены, тихие вечера в библиотеке, неизменно одинокие читатели; а когда в наступающих сумерках одна за другой зажигаются над ними зеленые лампочки — сигналы глубокого раздумья, она иногда спасается бегством от них.
— Сейчас последует одно из твоих знаменитых невыполнимых желаний, — сказал Манфред.
— Да, — быстро ответила она. — Одеться понарядней, уехать далеко-далеко. Но только очень нарядно и очень далеко.
— И без меня, — добавил он.
Вот чего она боялась. Каждую ее просьбу, он воспринимал как жалобу. Она промолчала. Они шли уже по заводской улице. «Нам сейчас совсем ни к чему ссориться», — подумала она и движением руки направила его в узкий проулочек между двумя заводскими зданиями, значительно сокращавший путь, но известный только посвященным. Молча прошли они несколько шагов.
— Со мной, видно, теперь и говорить нельзя, — сказал вдруг Манфред.
Рита почувствовала, что ее поймали на месте преступления, и попыталась увильнуть от ответа.
— Оставь. Я же знаю, — тихо сказал он.
— Что ты знаешь? — спросила она.
— Что я стал невыносимым. Невыносимо недоверчивым.
— Ты зря себе это внушаешь… — запинаясь, сказала она.
— Я же знаю, — повторил он. — Мне и самому от этого не сладко. Кажется, мне просто не везет…
— Везет людям только в сказках, — возразила она. — Да и там счастливчик замечает свое везенье, лишь претерпев множество бед.
— Все может быть, — сказал он. — Но наш-то век вовсе не сказочный. Тебе это и самой не мешает знать. Но не мне просвещать тебя. Охота ли собственными руками разрушать то, что я больше всего люблю в тебе?
Эти его слова она потом часто вспоминала. Такие слова не смоешь и морем слез. Но сейчас о слезах и речи не было. Они остановились в узком проходе между двумя высокими, когда-то красными кирпичными стенами, над ними висел малюсенький, весь в пятнах облаков, клочок неба, лязг машин оглушал их, кругом — ни души.
— Поцелуй меня, — попросила Рита.
С каким-то странным волнением взял Манфред в свои большие теплые ладони ее лицо и поцеловал.
— Мы созданы друг для друга, — тихо сказала она, поднимая на него глаза. — Твои ладони словно созданы для меня. И твой рот тоже.
Он рассмеялся и щелкнул ее по носу, как всегда, когда чувствовал себя много старше. Они пошли дальше. Обоняние подсказало Рите, что сейчас послышится запах сварки, и она постаралась несколькими секундами позже вдохнуть этот запах, который терпеть не могла. Она еще ничего не забыла. По пути она рассказывала Манфреду, что происходит в цехах: в этом собирают поворотные тележки, в том режут боковые и передние стенки. Видишь, как здесь тесно и полно закоулков. Ритмично выпускать продукцию почти немыслимо. Они прошли мимо кузницы. Земля содрогалась под их ногами от громовых равномерных ударов мощных молотов. Рита попыталась объяснить Манфреду, как неудачно расположена кузница, в которой начинается создание вагона.