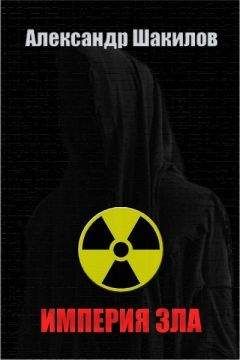Клыч Кулиев - Суровые дни (книга первая)
Махтумкули пожал плечами.
— Что ж, поедем, если это так нужно. Только хотелось бы узнать: коль он хозяин этого края, так почему жё не остановит бойню у Серчешмы?
— Это уже сделано! — с пафосом произнес Тачбахш-хан. — По приказу его превосходительства в Серчешму прибыл сам Абдулмеджит-хан. Сабли вложены в ножны, люди разъехались по домам. А все яшули отправились к хакиму, на совещание.
— И Шатырбек поехал?
— Да. И он, и ваш Адна-сердар, и другие. Все сейчас в Астрабаде. В Серчешме остались только люди Абдул-меджит-хана.
Махтумкули удовлетворенно перевел дыхание. Слава аллаху, что сабли вложены в ножны!
Солнце уже коснулось земли. Стало смеркаться,
Махтумкули, придавив грудью подушку, лежал в специально отведенной для пего комнате. Весь уйдя в мир образов, он не ощущал происходящего вокруг. — видел только бегущие одна за другой строки.
В комнате заметно потемнело. Махтумкули сел, глядя в окно, стал неторопливо читать только что написанное:
Я, плача, кличу друзей; не время, пришло, а бред;
Рабы мы злобных людей, молитва их — звон монет.
Ах, сколько бедных детей, и каждый нищ и раздет,
И хочется, чтоб скорей прервалось теченье лет!
Эпохе зваться моей безбожным временем бед!
Не встретиться никогда со смертью — ты не мечтай:
Жизнь тает быстрее льда, могила — родной наш край.
Но косна людей орда: как правду им ни внушай,
Запретное — им еда, проглотят, что им ни дай,
Хотя и твердят всегда: «О, истинный Мухаммед!»
Поэт положил на пол бумагу, взял калам и задумался. Чуть двигая губами, он снова и снова перечитывал стихи, написанные по способу шикесте. Сделал несколько поправок и перешел к следующим строкам.
Мир в горестях изнемог; несчастный плачет народ;
Тиран на него налег, и все нестерпимей гнет.
На сердце мира — ожог, а пламя все жарче жжет,
И тем лишь, кто был пророк, стоит еще небосвод,
Забавой тешится рок, покуда не рухнет свет!
Я нищ и, ничтожен сам, и годы провел я зря;
Я верю лишь небесам, с надеждой, на них смотря.
Но мысли бурным волнам я предан — где якоря?
Подобен Фраги пловцам, плывущим через моря!
Кому я руку подам? Предела пучинам нет!
Стихи были написаны, и поэту показалось, что сердцу стало немного легче. Свою боль он разделил с другими людьми, которым еще предстояло прочесть эти строки. Примут ли они эту боль? Поймут ли?
Поэт убрал бумагу и калам, сложив их аккуратно на полку. Взял толстую книгу. Арабской вязью на обложке было выведено: «Шахнамэ». На полке стояло много других книг. Поэт бегло просмотрел некоторые из них, потом снова взял «Шахнамэ» и отложил ее в сторону, отдельно от остальных.
Задумался. Нет, люди поймут его. Ибо его муки, заботы и мечты — это их мечты, заботы и муки.
Сейчас как никогда он ощущал себя частицей народа.
После вечернего намаза Махтумкули снова зашел к своим соотечественникам. В темной комнате лежал только один Анна, остальные были еще заняты работой.
Поэт зажег лампу, взял кувшин и отправился кипятить во дворе чай. К костру подсел парень с черными как смоль усами на бледном от усталости лице. Поглаживая усы и глядя в огонь немигающими глазами, он рассказал, как целый день рубили в лесу дрова, корчевали пни…
Вскоре подошли и остальные. За чаем завязалась беседа. Махтумкули рассказал о приглашении хакима Астрабада. Сообщение было воспринято по-разному, но все сошлись на одном: добра от этого ждать нечего.
Черноусый сказал:
— Конечно, если вызывают, ехать придется. Только вы не слушайте советов Тачбахш-хана — это подлец из подлецов. Что касается меня, то я никогда не доверился бы кизылбашу.
— Не все кизылбаши одинаковы, сынок, — возразил ему Махтумкули. — Вот по соседству с вами трудится Махмуд-уста. Разве он не такой обездоленный, как все бедняки? Разве он не проклинает свою жестокую судьбу? Он совсем не похож на лукавого Тачбахш-хана.
Черноусый недоверчиво покачал головой.
Помолчав, Махтумкули заговорил снова:
— Понятно, в Астрабад зовут не в гости. Но, как говорится, с голого и семерым халата не снять. Расскажу хакиму все, что думаю, а потом пусть делает со мной, что хочет.
— О нас тоже не забывайте, Махтумкули-ага! — сказал Анна. — Пока вы здесь, с нами обращаются по-чело-вечески, но завтра, наверное, снова начнутся наши мучения… Сделайте что-нибудь для нас, Махтумкули-ага!
На него напустились:
— Пяхей, как мальчишка разговариваешь!
— Что может сделать Махтумкули-ага?
— Войско, что ли, пришлет, чтобы тебя освободить?
— В нашей участи нам никто не поможет!
— Как знать, — сказал Махтумкули. — Человеку неведомо, откуда подует завтра ветер судьбы.
— Ай, никто не видел конца света! — черноусый парень тряхнул головой и взял дутар. — Отведем душу?
Махтумкули одобрительно улыбнулся.
— Верно, сынок! Начинай, а мы поможем!
Закатив рукав, парень настроил дутар, цепко взялся за гриф, ударил по шелковым струнам. Тихий стон пролетел по комнате. За ним — второй, третий… Стонали маленькие души убитых детей, стонали обесчещенные девушки, стонали седобородые старцы, перебирая сухими пальцами черные четки пролетевших как вздох дней. Сама земля исходила стоном. Звуки лились потоком, и темнота ночи жадно глотала их.
Но вот дутарист сильнее ударил по струнам. И уже не стоном, а глухим рокотом гнева зазвучал дутар. В сердцах слушателей его звуки отзывались то тревогой, то радостью близкой победы. Слышался им боевой зов сурная, топот копыт, звон сабельной стали. И загорелись глаза людей, распрямились согнутые усталостью спины, руки сжимались в кулаки.
Дутар умолк. Но долго еще в комнате витали грозные звуки, а люди молчали, думая каждый о своем.
— Хорошо играешь, сынок, — сказал Махтумкули. — Дай-ка и я помогу тебе!
Он подкрутил колышки, перестраивая инструмент. Тонкие пальцы чутко коснулись струн — и вот уже зажурчал серебристый говорок ручья, щелкнул соловей, прислушался и еще раз щелкнул. С кувшином на плече подошла к ручью прекрасная девушка и остановилась: она ждет возлюбленного. Ее руки нетерпеливо перебирают складки платья, в глазах ее — обещание райского блаженства. А вот и юноша — он бежит, он спешит на свидание, крылья вырастают за его спиной! Увидели они друг друга — и все тише поет дутар, — не мешайте влюбленным…
Лица слушателей просветлели, губы их улыбаются, грудь дышит легко. Кажется» даже в тесной комнатушке стало просторней.
Но снова рокочут струны — люди видят, как буйно колосится спелая пшеница, слышат радостные голоса детей, веселую перекличку жнецов. Скрипят по дороге груженые арбы, кричат верблюды, недовольные тяжелой поклажей, а в бездонном небе звенят жаворонки и кажется, что это поет само небо.
Махтумкули устало опустил дутар на колени. Со всех сторон раздались восторженные голоса:
— Ай, спасибо, Махтумкули-ага!
— Доброго здоровья вам, Махтумкули-ага!
— Пусть аллах удвоит вашу жизнь!
— Тысячу лет вам, Махтумкули-ага!
И только черноусый молчал. А когда Махтумкули, отложив дутар, потянулся к чайнику, он поднял голову.
— Шахир-ага! — сказал парень таким тоном, что все невольно насторожились. — Спойте нам, шахир-ага, «Тоску по родине».
— Эти стихи не поются, сын мой, — сказал поэт.
Джигит настойчиво возразил:
— Мы их поем, Махтумкули-ага!
Махтумкули обвел взглядом сидящих и понял, что отказаться нельзя. Он хотел прочитать стихи тихо и ровно, но голос его с первых же строк зазвучал страстно:
В черный день одиночества сонные очи,
Увядая, родную страну будут искать.
В тесных клетках; своих с полуночи,
Соловьи только розу одну будут искать..
Из-за родины принял я жребий скитаний.
Тяжело мне, мой взор заблудился в тумане.
Зарыдают ладьи о слоем океане,
Истлевая на суше, волну будут искать.
Если кровь страстотерпцев прольется ручьями
И душа задохнется под злыми руками,
Беззаботные бабочки, рея роя-ми,
В чашах роз молодую весну будут искать.
Стрелы гнет, тетиву обрывает изгнанье.
И Фраги и богач в золотом, одеянье
Перемену судьбы, как свое достоянье,
У горчайшей разлуки в плену будут искать.
Комната снова погрузилась во тьму, но теперь она была зловещей, словно бы багряной от пожара.
Кто-то кашлянул.
У двери, смущенно переминаясь с ноги на ногу, стоял старый слуга.
— Простите… — сказал он, когда наступило молчание. — Фарук-хан приглашает вас, Махтумкули-ага, разделить с ним ужин!
Старый нукер долго не решался войти и стоял под дверью, слушая сначала звон дутара, потом стихи. Он понимал, что Махтумкули прощается с земляками: кого вызывает хаким, тот может и не вернуться…