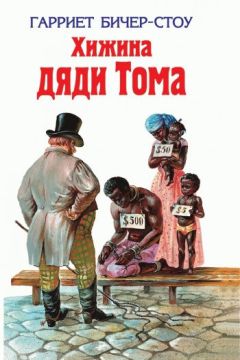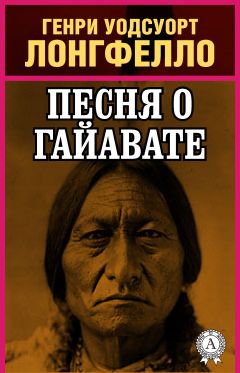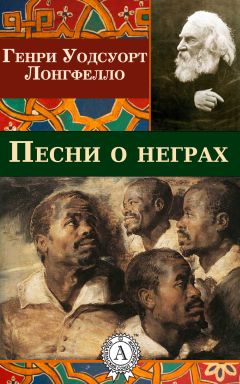Михаил Ландбург - Посланники
Моя подруга точно идеалистка! С ней я познакомились в помещении университетской библиотеки, где проходила встреча молодых поэтов.
- Меня зовут Сельга, - назвалась она.
- Странное имя, - удивилась я.
Сельга улыбнулась:
- Я знала, что ты так скажешь.
Потом я узнала, что она родом из Финляндии, а теперь живёт с дедушкой Уди и бабушкой Хельмой в кибуце Яд-ха-Шмона и пишет курсовую работу по одной из книг Аарона Мегеда. Мы побродили по Иерусалиму, и я проводила её на автобусную станцию. Сельга возвращалась в кибуц, где она подрабатывала в местной библиотеке. До прихода автобуса оставалось минут сорок, и мы решили заглянуть в маленький ресторанчик, где нам подали тарелку салата из помидоров, огурцов, лука, красного перца и оливок. Мы говорили без устали, и я узнала, что Сельга дочь финки и немца, а теперь приняла иудаизм. Когда подошёл автобус, Сельга протянула мне несколько страниц из старого номера газеты "Маарив" и сказала:
- Почему бы тебе не погостить в Яд ха-Шмона? Это недалеко, всего-то тринадцать километров от Иерусалима. У нас замечательный ресторан. Принимает гостиница. Соглашайся!
Я сказала:
- При случае…
Был звонок от Лотана:
- Бои откладываются…У меня двое суток отпуска.
Была прогулка по Яд ха-Шмона.
Был камень-памятник.
Была ночь в гостиничной комнате.
Был сон, выйдя из которого, я ощутила внутреннее содрогание.
Было утро.
В ресторане Яд ха-Шмона несмолкающий говор туристов напоминал бормочущих во сне кур
Кто-то из посетителей включил телевизор. На экране показалась старая запись выступления Бернарда Шоу. Лотан сказал: "Старый эскапист".
Я подумала: "Покойники продолжают говорить, и у них это получается совсем не плохо".
На завтрак Лотан предложил " Ab ovo usque ad mala*. и, дождавшись моего одобрения, достал из глубокой посудины варёные яйца.
Я разглядывала Лотана. Наверно, слишком долго разглядывала.
- Что? - спросил он.
- Ничего. Я ничего не сказала.
- Но сказать хотела...
Повертев в руке ложечку, я задумчиво проговорила:
- Ночью ты повёл себя как человек!
Лотан прикусил губу.
- Как человек! - повторила я.
Лотан заметил, что "как человек" звучит туманно: не то, как загадка, не то, как на загадку ответ.
- "Человек" – это никогда не ответ, - прошептала я. - Человек – это всегда вопрос". Пауль Тиллих… Читал?
Лотан сощурил глаза и тяжело вздохнул.
Мне на память пришла старинная песенка:
*(лат.) "От яиц до яблок", то есть, от начала до конца. У древних римлян трапеза обычно начиналась с яиц и заканчивалась фруктами.
Bibit pauper et aegrotus,
Bibit exul et ignotus,
Bibit puer, bibit canus,
Bibit praesul et decanus.
Bibit soror, bibit frater,
Bibit anus, bibit mater,
Bibit iste, bibit ille,
Bibunt centum, bibunt mille.*
Отхожу от окна.
День смыкается. Свет исказившись, износившись, ёжится, поддаётся напору вечера, покидает границы дня.
Заглядываю в себя.
Брожу по комнате.
Парализует вид плотно прикрытой двери.
Думаю: "Кажется, Ганс Корн считает, что людям необходимо умирать; лишь только таким образом они рождаются другими".
Валюсь на кровать. Стуком пальца по лбу, высекаю мысль: "Лотан, у нас будет так, как быть суждено… Будут и восторг, и нежность, и изумление, и наполненность друг другом…Всё это будет! А сейчас позволь мне вернуться в тот сон".
Смотрю, как по стене растекается выражение без лица.
Закрываю глаза – надо мной раскачивается то лицо без выражения, то выражение без лица.
"Усни! - уговариваю я себя. - Дослушай Ганса Корна и возвращайся к Лотану. Если что-то пойдёт не так, всегда сможешь проснуться…"
В голове зуд: Ганс Корн разбередил во мне неизведанные прежде чувства и мысли, и, если он не вернётся, то, возможно, упущу что-то очень важное, и, помимо того, я собиралась спросить, почему в столь красивом мире столь много некрасивого.
Сон не приходит, а это может означать лишь только одно: из того пространства, где Гансу Корну привольно, легко и малотревожно, он больше ко мне не явится.
Понимаю –
ему на поверхности земли трудно дышать…
Вдруг вижу –
на меня надвигается пугающая картина обвала холмов, погибающего солнца, внезапно почерневшей травы. Чей-то голос говорит: "Не пугайся! Ни холмам, ни солнцу, ни траве погибнуть не позволим!"
Дребезжит телефон.
* (лат) Пьёт и домосед, и странник,
Пьёт неведомый изгнанник,
Пьёт и старый, пьёт и малый,
Пьёт и шалый, пьёт и вялый,
Пьёт и бабка, пьёт и дедка,
Пьёт мамаша, и соседка,
Пьёт богатый, пьёт и нищий,
Хлещут сотни, хлещут тыщи"
(Пер. М.Л. Гаспарова).
- Завтра десятая годовщина со дня смерти той самой г-жи Орси, которая, схватившись с демонами, упрятала в деревне Ла-Шамбон-сюр-Линьон моих будущих родителей. Прошлое – это всегда печать признательности или упрёка.
Жестокость, которую порой проявляет человек, не укладывается в уме. То, что произошло, могло бы и не быть, если бы люди…И наоборот, вполне могло бы случиться то, чего не случилось, если бы люди не… "Поистине, люди вобрали в себя всё добро и всё зло", - так говорил Заратустра. Если бы люди…
Букинист помолчал. Потом сказал:
- Г-жа Орси знала, в чём секрет к спасению жизни. "Если бы люди, - говорила она, - помнили о безусловной ценности жизни, дорожили ею, то не свернули бы в бездну…"
Букинист снова помолчал.
Было слышно, как он тяжело дышит.
- Вылетаю в Лион, - проговорил он чуть погодя. - Вернусь через два дня. Пожалуйста, присмотри за лавкой.
- Не сейчас…Жду к себе в сон убитого.
- Убитого?
- Не совсем. Не знаю, как мне это сказать…Я должна собраться с силами.
- С силами?
- О лавке позабочусь.
Однажды Лотан сказал, что у него сложилось впечатление о букинисте, будто тот человек одинокий. "Нет, - возразила я, - у него есть я. Быть вдовцом или быть одиноким – это разное…"
Вновь закрываю глаза и теперь вижу, как –
по поверхности оконного стекла скользят, извиваются полоски чёрного дождя, а за окном, над чёрными силуэтами холмов, повисло тёмное, вспухшее небо.
Комната погружена в безмерную таинственность.
Не дыша, за моей спиной стоит невидимый Ганс Корн.
- Говори! - прошу я.
Не произнеся ни единого слова, он говорит: " …………………."
Я не возражаю, не спорю, не отвергаю его слова но, терпеливо пропустив через себя его упрёки, тем не менее, сетую на то, что мёртвые обожают поучать живых.
- Что ты думаешь о нашей теперешней операции в Газе? - спрашиваю.
- Немногое.
- Тебе безразлично?
- Надеюсь на будущие разы.
- Разве будут ещё?
В его вопрошающих глазах читаю: "Иного выхода не будет!"
- Но разве мы не…- говорю я.
- Такое – напрасно! Вы не… - кажется, Ганс Корн не столько раздосадован, сколько озабочен. - Вы всё оставили, как есть… Вы заблудились…
Теряется нить беседы.
Набежавшая струя ветра разбивает окно и, подхватив меня, забрасывает на гору Синай, где одно-единственное строение – родильный дом. Здесь на сплетенных из лавровых листьев ложах рожают солдат. Размахивая тяжёлым посохом, старик с невероятно длинной седой бородой возмущается: "Женщины, зачем вы рожаете одних только солдат?" Женщины отзываются: "Так распорядилась Судьба, а мы не Медеи, чтобы детей своих убивать". Старик заплакал: "Не делайте этого, прекратите рожать. Вы не понимаете, что ваши дети рано или поздно друг друга перебьют?"
Открываю глаза.
Меня обступает липкий озноб.
Напрягаю слух.
Оглушительное безмолвие.