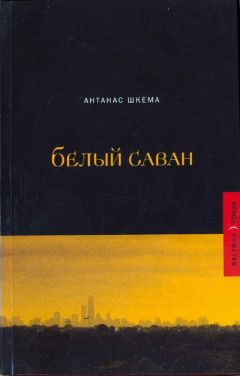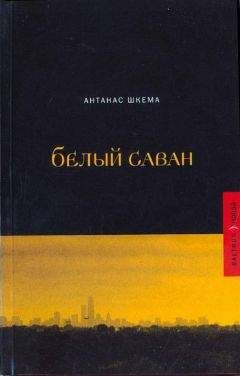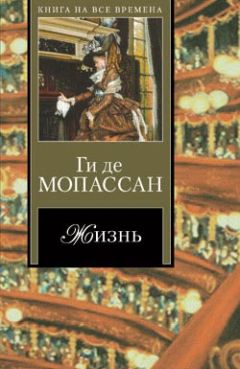Антанас Шкема - Белый саван
— Ты лежи, лежи. Мне спокойней, когда ты лежишь здесь. Будь.
— Не пей, — опять попросила она.
— Будь.
На улице сыро. Прохладно. На натянутой веревке висело тридцать восемь белых халатов. Гаршва сосчитал их, пока ждал Эляну. Ставни в соседнем доме закрыты, а из трубы литейного заводика, расположенного довольно далеко, в небеса рвались языки пламени.
— Ювелир мой совсем обленился. Никак не сузит кольцо с карнеолом. А мы с тобой так и не навестили вагон на площади Queens. Мы с тобой эмигранты, нам требуются анахронизмы. Тебе — легенды, мне — незаконченные стихи.
— А что говорит твой доктор?
— Ничего определенного.
— Когда пойдешь к нему?
— Завтра.
Гаршва быстро пересел из кресла на диван. Обхватил плечи Эляны и как бы оперся на нее.
— Хочешь жить со мной? Было бы так хорошо. Я брошу пить и стану меньше курить. Поменяю время работы, чтобы вечером быть с тобой. Иногда попрошу: сходи в кино, навести знакомых. А сам сяду писать. Перестану насмехаться. Мне будет хорошо с тобой. Мне бы очень хотелось произнести несколько слов. Важных для себя. Чтобы окончательно высказаться. Хотелось бы написать цикл стихов, где каждая буква подобна несмываемому орнаменту. Который не соскоблить. Я бы долго-долго работал, чтобы они возникли. С тобой замечательно. Не думай, что это пьяная болтовня. Я постоянно болею. Несколько штрихов в мраморе, вот чего жажду. Иллюзия бессмертия? Пускай. Умереть с настоящей иллюзией — дело хорошее. Я буду благодарен. Отцу, матери, болотам, семафору, Йоне, моим припадкам, критику моему, книгам, шаркающей старушке, Жене, Вайдилёнису. Всем. Если ты считаешь, что мы можем попробовать, давай попробуем. Вдруг я выиграю? Если веришь мне, то будь со мной. Если я тебе нужен.
— Я люблю тебя, — сказала Эляна. — Сегодня же поговорю с мужем. И буду здесь, у тебя.
— Не надо. Я сам попрошу у него развод.
Время исчезло. Сведенные пальцы, полное отключение, наклон в сторону и скольжение вниз, звериный рык победителя.
Один из победителей провалился в небытие. Не кто иной, как Антанас Гаршва. Мускулы ослабли. В его гаснущем сознании запечатлелся силуэт правой руки. Он даже не почувствовал, как соскользнул с дивана на пол. Ухватился за свой синий халат, судорожно зажав между пальцами шелковую полу.
Антанас Гаршва распластался на цветастом линолеуме. Рот полуоткрыт, на губах собралась зеленоватая пена, она стекала по подбородку и капала на фантастический цветок на полу. Зрачки закатились, их скрывали веки. Эляна схватила свое платье, нырнула в него, сбегала на кухню и вернулась с миской, полной воды. Она наклонила миску рядом с головой Гаршвы.
Широкая струя лилась прямо в нос и стекала по лицу на пол. Понемногу к нему возвращалось сознание. Стали видны зрачки. Зашевелилась кожа возле соска, это давало о себе знать сердце. Пальцы выпустили полу халата. Поддерживаемый Эляной, Антанас Гаршва уселся на диван. Провел ладонью по мокрому лицу. Из всех пор выступил пот, тело заблестело, совсем как у атлета, намазанного вазелином.
— Башмаки, — проговорил он. — Башмаки Ван Гога. Я видел их, эти башмаки Ван Гога. Меня разобрало зло. Грязные башмаки стояли на столе. Дай мне сигарету.
— Подожди. Лучше выпей воды.
Эляна налила воды из миски в стакан и подала Гаршве.
— В кармане брюк у меня коробочка. Дай мне ее.
Он с озабоченным видом открыл коробочку, высыпал на ладонь два желтоватых целлулоидных пистона, бросил их в рот и запил водой. После чего надел халат и подпоясался. Вытащил носовой платок, вытер лицо.
— Ну и как я выглядел, потеряв сознание?
— Не спрашивай, не надо.
— Ну а все же?
— Ты лежал на полу, на линолеуме. Поджав ноги и вцепившись в халат.
— Ладно, пусть будет так. Совсем как венецианский дож, отравившийся у постели своей возлюбленной. Или как убитый зверь. Людьми определенного клана. С голубой кровью. Так это представляет себе романтик. А теперь оставь меня. Я усну.
— Скажи мне телефон своего врача.
— В этом нет нужды. Со мной такое не впервые. А когда припадок проходит, доктор уже ни к чему. Высплюсь и буду здоров.
— Не хочешь, чтобы осталась?
— Нет. Странная психическая реакция. Хочется побыть одному. Это помогает. Позже я тебе объясню. Прости.
— Приду завтра. Вернее приеду. С вещами.
— Лучше не завтра. Я позвоню. Возможно, схожу к доктору. Я тебе завтра позвоню.
Эляна молча оделась, и Гаршва закурил сигарету. Он легко поднялся, поцеловал Эляну. Теплыми, полными жизни губами.
— Обязательно завтра позвони.
— Обязательно. Спасибо и прости меня.
— Я люблю тебя, — сказала Эляна. И ушла.
Гаршва плеснул себе в стакан виски White Horse. Выпил. Бросил взгляд в окно. Тридцать восемь халатов по-прежнему висели на веревке, ставни были закрыты, и языки пламени рвались из трубы в небо.
— Первый раз. Первый раз я потерял сознание. Что бы это значило? Что?! — выкрикнул он. Горячий покой постепенно окутывал мозг. — Почему я не сказал ей, что находился в сумасшедшем доме? Почему умолчал, не написал?
Около десяти часов начинается толчея. На восемнадцатом — танцы для молодежи. Здесь будут веселиться парни и девушки с Бруклинской занавесочной фабрики. Совсем недавно закончили свой пир масоны. У тех все по плану. Румяные старички и старушки спускались вниз в разноцветных бумажных шапочках. Средневековое наследие. Бубенчики позванивали над их солидными головами. Они дули в картонные дудки, а из дудок выскакивали комочки резиновых лягушек и ящериц, которые очень походили на живых. И хохотали при этом.
Теперь вверх поднимается молодежь. Все какие-то грустные, хотя стоят в обнимку. Бумажные шапочки сочетаются у них с девичьими платьями, сережками, искусственными цветами, краской на щеках и бровях, а у парней — с галстуками, булавками, носками.
Между собой они почти не разговаривают, поднимаются парами, глядя друг другу в глаза. Приговоренные к танцам. Они не отрывают взгляда, как перед расставанием. Мир перевернулся вверх тормашками. Веселятся те, кто спускается в лифте. А молодежные танцы — кукольный бал. И проходит он в похоронной конторе.
Некоторые уже выпили и теперь поднимались в лифте, будучи навеселе. Они курили дешевые сигареты, пытались вести разговор, но обходились теми же словами, что и на фабрике. Занавеси из нейлона сильно наэлектризованы, и когда их вешаешь на железные палки, тебя бьет электричеством по пальцам. А еще есть такие цветастые занавески, что когда режешь полотнище, пылинки крахмала носятся в воздухе, и ты кашляешь, кашляешь без передышки. Зато приятно иметь дело с обычным белым тюлем: режется он хорошо, ножницы так и бегают, рабочий день пролетает незаметно. Все это Гаршва узнает от тех, кто поднимается в лифте без девушек.
— Да, парень, нелегко тебе.
— Видно, желудок хороший.
— Что ж, парень, завтра опять эти занавески!
— Не повезло нам, зал дали только в десять часов.
— Фабрика ведь отмечает свой юбилей. Нам даже платить не надо. Босс платит.
— Наш новый forman[54] зря цепляется. Новенькие — они всегда пристают без дела.
Как красиво колыхались занавеси в фильме Кокто! Длинный коридор в замке, открытые окна, ветер и белые занавеси. Те самые, которые так просто и легко режутся, даже не замечаешь, как проходит день на фабрике.
Молодежь с занавесочной фабрики. Кукольный бал. И занавеси — символ неразрешимости многих проблем. Кто-то шевельнулся по ту сторону, скрытый от глаз, и Полоний пал, пронзенный шпагой. И вот уже занавеси — символ разрешения извечных проблем. В последний раз хватается за занавеси Отелло. Я люблю занавеси. Они такие живые, как и куклы. Они вечны своим мягким струением, точно так же куклы вечны своим выражением лиц. Довольно изысканное сочетание: куклы, развешанные на занавесках. И все они колышутся, колышутся от дуновения ветра. Печальные пары в обнимку. Два сердца, пронзенные стрелой. Меткий Купидон идет по зеленому лугу, у него розовые ноги и перламутровые ногти.
— Так-то вот, парень. Сигарету хочешь? На, бери.
Мир стоит на голове. Ну почему вы не масоны, а масоны, наоборот, не вы? Долговязый парнишка, румяный, как Купидон, целует свою девочку в шею. Оба прижались к стене. Кукла с открытым ртом следит за цифрами на световом табло, и Гаршва ждет, когда заскрежещут пружинки, и девочка произнесет: «ма-ма».
Ваш этаж. Восемнадцатый, восемнадцатилетние. Целуйтесь во время танца; целуйтесь на бархатных диванах, они как раз стоят в коридорах отеля, а я сделаю вид, что ничего не вижу. И забудьте про занавеси. Ave Caesar, vivantes te salutant![55]
Странно. Печальные пары принесли мне надежду. С каждым днем, с каждым часом я становлюсь все богаче. Я выбрал замечательную работу. Можно даже представить, что сделал это нарочно. Мне не нужно больше таскаться под дождем. Старушка свое выполнила и теперь, получив благословение, гниет в гробу. Славная, лагерная старушка. А поэт Вайдилёнис пишет стихи про вполне реального жреца, которого он одолжил у романтиков и который никогда не играл на литовских гуслях, на канклес, мелодии девятнадцатого века в годину нашествия крестоносцев. Поэт Вайдилёнис с упоением сует в свои строфы иерихонские трубы. И все для того, чтобы духовой оркестр мог исполнять marche funebre[56]. В котором разве только корнет-а-пистон почти не фальшивит.