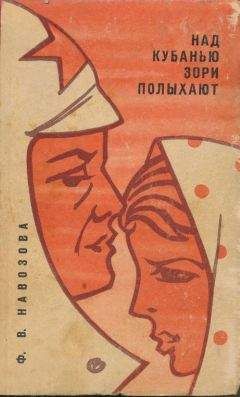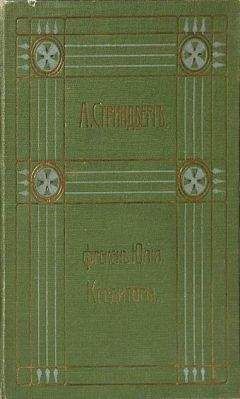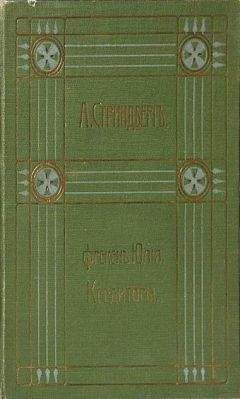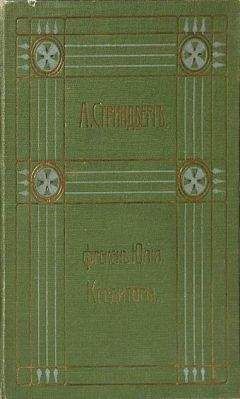Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 4. Красная комната
Присели к столу гостиной и тотчас уцепились за разные спасательные снаряды в роде фотографий, неудобочитаемых сборников стихотворений и тому подобное. Маленькая брошюрка попала подруге в руки; она была напечатана на розовой бумаге с золотым обрезом, и заглавие её гласило: «Оптовому торговцу Николаю Фальку в его сороковой день рождения».
— А, вот стихи, которые читались у вас на вечеринке. Кто же их написал?
— О, это талант. Хороший друг моего мужа. Его фамилия Нистрэм.
— Гм!.. Странно, что этого имени нигде не слышно! Такой талант! Но почему же его не было на вечеринке?
— Он, к сожалению, был болен, моя милая; и потому не мог прийти.
— Так! Но, милая Евгения, как грустно это происшествие с твоим шурином! Его дела весьма плохи!
— Не говори о нём; это позор и горе для всей семьи! Ужасно!
— Да, действительно, было очень неприятно, когда на вечеринке спрашивали о нём; я право краснела за тебя, моя милая Евгения.
— «Вот тебе за буфет времен Карла XII и за японские вазы, — подумала жена ревизора».
— За меня? О, пожалуйста; ты хочешь сказать, за моего мужа? — возразила госпожа Фальк.
— Да ведь это же всё равно, думается мне.
— Нет, нисколько! Я не ответственна за всяких негодяев, с которыми он в родстве!
— Ах, как жаль, что твои родители тоже заболели в день последней вечеринки. Как теперь здоровье твоего милого отца?
— Благодарю! Очень хорошо! Ты обо всех думаешь!
— Ах, надо думать не только о себе! Что он от рождения так болезнен — как мне называть его?
— Капитан, если хочешь!
— Капитан? Насколько я помню, муж мой говорил, что он сигнальщик; но это, должно быть, одно и то же. И из девочек тоже не было ни одной.
«Это тебе за брюссельский ковер», — подумала жена ревизора.
— О, они так капризны, что на них никогда нельзя рассчитывать!
Госпожа Фальк перелистала весь свой фотографический альбом, так что переплет затрещал. Она совсем покраснела от злобы.
— Послушай, милая Евгения, — продолжала госпожа Гоман, — как звать этого неприятного господина, который читал стихи на вечере.
— Ты говоришь о Левине, королевском секретаре Левине; это ближайший друг моего мужа.
— Вот как? Гм!.. Странно! Мой муж ревизором в том же самом учреждении, где он секретарем; я не хотела бы огорчать тебя и говорить тебе неприятное; я этого никогда не говорю людям; но муж мой утверждает, что дела этого человека так плохи, что он решительно неподходящее общество для твоего мужа.
— Он говорит это? Я этого не знаю и не мешаюсь в это дело и скажу тебе, дорогая Эвелина, я никогда не вмешиваюсь в дела моего мужа, хотя и есть люди, которые это делают.
— Прости, дорогая, но я думаю, что оказала тебе услугу, рассказав тебе это.
Это было за люстру и обеденный стол! Оставалось еще бархатное платье!
Жена ревизора опять взялась за прежнюю нить, «Говорят твой шурин»…
— Пощади мои чувства и не говори о погибшем человеке!
— Ужели же он на самом деле погиб? Я слышала, что он вращается в кругу худших людей, каких только можно видеть…
Здесь госпожа Фальк была помилована, так как слуга доложил о госпоже Ренгьельм.
О, как ей были рады! Как любезно с её стороны, что она оказала честь.
И действительно, она была любезной, эта старая дама с любезным лицом, какое бывает только у тех, кто с истинным мужеством пережил бури.
— Милая госпожа Фальк, — сказала баронесса, — я могу вам передать поклон от вашего шурина!
Госпожа Фальк спросила себя, что она ей сделала, что и эта хочет ее злить и ответила обиженно:
— Да?
— Это такой любезный молодой человек; он был сегодня у меня и посетил моего племянника; они хорошие друзья! Это поистине прекрасный молодой человек.
— Разве не так? — вмешалась госпожа Гоман, которая всегда участвовала в переменах фронта. — Мы как раз говорили о нём.
— Так!.. И чему я удивляюсь больше всего, это его смелости пускаться по течениям, где так легко сесть на скалы; но этого нечего бояться для него, потому что он человек с характером и принципами. Не находите ли вы этого тоже, милая госпожа Фальк?
— Я это всегда говорила, но муж мой был всегда другого мнения.
— Ах, у твоего мужа, — вставила госпожа Гоман, — всегда были особенные мнения.
— Значит, он дружит с вашим племянником, ваше сиятельство? — продолжала госпожа Фальк.
— Да, у них маленький кружок, в котором участвуют также несколько художников. Вы ведь читали о молодом Селлене, картина которого приобретена его величеством?
— Да, конечно, мы были на выставке и видели ее. Так он тоже в этом кружке?
— Да, как же. Им порой приходится очень туго, как вообще часто бывает с молодыми людьми, которым приходится пробиваться.
— Говорят, что он поэт, твой шурин, — сказала госпожа Гоман.
— Да, я думаю! Он пишет прекрасно, он получил премию от академии, и со временем из него выйдет что-нибудь большое, — ответила госпожа Фальк убежденно.
— Не говорила ли я это всегда? — подтвердила госпожа Гоман.
Тут пошло на повышение с достоинствами Арвида Фалька, так что он уже был в храме славы, когда слуга доложил о пасторе Скорэ. Тот вошел быстрыми шагами и поспешно поздоровался с дамами.
— Я прошу извинения, что так опаздываю, но у меня немного свободных минут; мне в полчаса девятого надо быть на заседании у графини Фабелькранц, и я прямо с работы.
— О, вы так спешите, господин пастор?
— Да, моя широкая деятельность не дает мне отдыха. Быть может, мы тотчас приступим к заседанию?
Слуга принес напитки.
— Не хотите ли чашку чая, господин пастор, раньше чем начать? — спросила хозяйка, которая опять пережила неприятность небольшого разочарования.
Пастор кинув взгляд на поднос.
— Нет, благодарю вас; так как есть пунш, то я его возьму… Я поставил себе за правило, милостивые государыни, ни в чём не отличаться в моей внешней жизни от окружающих. Все люди пьют пунш, я не люблю этого напитка, но я не хочу, чтобы люди говорили, что я лучше их; хвастовство — порок, который я ненавижу! Можно теперь читать отчет?
Он сел за письменный стол, обмакнул перо и начал:
— О подарках, сделанных в мае яслям «Вифлеем», отчет правления. Подписано: Евгения Фальк.
— Урожденная, позвольте узнать?
— Ах, это неважно, — уверяла госпожа Фальк.
— Эвелина Гоман.
— Урожденная, позвольте узнать?
— Фон-Бэр, милейший господин пастор!
— Антуанетта Ренгьельм?
— Урожденная, ваше сиятельство?
— Ренгьельм, господин пастор.
— Ах, да. Ведь вы замужем за кузеном, муж умер, бездетны! Продолжаем! «Подарки»…
Общее (почти общее) удивление.
— Разве вы не хотите подписать свое имя, господин пастор? — спросила госпожа Гоман.
— Я боюсь хвастовства, сударыня, но если вы желаете! Извольте!
— Натанаэль Скора.
— На здоровье, господин пастор! Выпейте же, прежде чем начать, — попросила хозяйка с восхитительной улыбкой, которая погасла, когда она увидела, что стакан пастора пуст; она быстро наполнила его.
— Благодарю вас, госпожа Фальк, но не будем отвлекаться! Значит, начинаем? Хотите последить по рукописи!
— Подарки: её величество королева — 40 крон. Графиня фон-Фабелькранц — 5 крон и пара шерстяных чулок. Оптовый торговец Шалин — две кроны, пачка конвертов, шесть карандашей и бутылка чернил. Фрэкен Аманда Либерт — бутылка одеколона. Фрэкен Анна Фейф — пара манжет. Маленький Карл — 25 эрэ из своей копилки. Девица Иоганна Петерсен — полдюжины полотенец. Фрэкен Эмилия Бьорн — Новый Завет. Гастрономический торговец Персон — пакет овсянки, четверть картофеля и банку маринованного лука. Торговец Шейке — две пары шерстяных…
— Господа! — прервала его баронесса. — Позвольте узнать: всё это будет напечатано?
— Да, конечно! — ответил пастор.
— Тогда позвольте мне выйти из правления!
— Не думаете ли вы, ваше сиятельство, что общество может существовать доброхотными даяниями, если имена жертвователей не будут опубликованы? Нет!
— Так значит, благотворительность должна придавать блеск мелочному тщеславию?
— Нет! Нет, конечно! Тщеславие — порок; мы обращаем порок на доброе дело; мы превращаем его в благотворительность; разве это не хорошо?
— Конечно, но мы не должны называть хорошим именем мелочность; это хвастовство!
— Вы строги, ваше сиятельство! В писании сказано, что должно прощать; простите им их тщеславие!
— Да, господин пастор, я прощаю им, но не себе! Что бездельные дамы делают себе из благотворительности развлечение — простительно, хорошо; но что они смеют называть хорошим поступком то, что только есть развлечение, больше развлечение чем всякие другие, вследствие той заманчивости, которую придает ему публичность, печать, — это позорно.