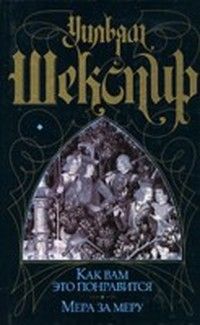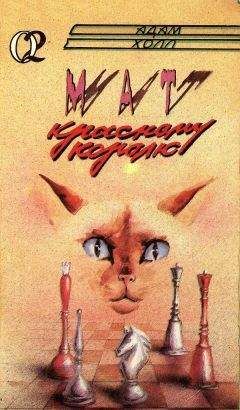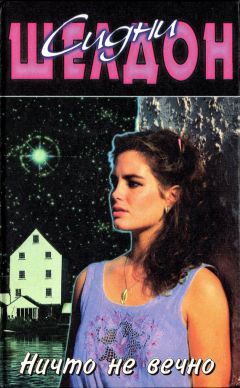Андрей Добрынин - Избранные письма о куртуазном маньеризме
Как прекрасны, друг мой, улицы старой Москвы ясным бессолнечным днем середины осени, особенно если этот день — воскресенье! Шум проезжающих редких автомобилей только углубляет тишину, фигуры редких прохожих только подчеркивают безлюдье. Цвета предметов перестают излучать себя в пространство, как в солнечную погоду, и словно замыкаются в своей благородной сдержанности, которая радует глаз художника не меньше, чем бесконечное разнообразие гармонически сочетающихся на этих улочках кубистических объемов каменной плоти — выступов, пилястров, эркеров, фонарей, балконов… Стройные ряды тускло поблескивающих оконных проемов и охряные плоскости фасадов разных оттенков, образующие в совокупности с чистыми бледно–серыми полотнами асфальта изломчатую перспективу, грубые наслаивающиеся мазки готовых облететь кленовых листьев в сквериках, таинственные и манящие боковые русла переулков и пещеры подворотен, в которых открываются каменные мирки дворов — все это подлинный рай для одинокого мечтателя. Здания, застывшие в своей немой отчужденности, словно впитывают четкие отзвуки его шагов. Так и наши с Юрием шаги, разносясь по сторонам, рождали в душе отрадное чувство внутренней свободы — той свободы и той отрады, что неразрывно связываются с грустью. Впрочем, дойдя до пивного ларька, мы оживились, заразившись тем оживлением, которое царило там. Дух вседозволенности реял над загаженным пятачком вокруг ларька, проявляя себя в цинических разговорах и раблезианских остротах любителей утреннего пива, на чьих опухших лицах стояла роковая печать упомянутого духа. С одним из этих молодцов по прозвищу Потапыч я не замедлил познакомиться и разговориться. Знакомство оказалось полезным: когда мы, утолив первую, самую жгучую жажду, собрались восвояси, то вспомнили, что у нас нет пустых сосудов для переноски пива. Потапыч, принявший нашу беду близко к сердцу, кликнул отиравшуюся тут же даму, не менее опухшую, чем он сам, и распорядился нас выручить. Дама, представлявшая, по некоторым признакам, столь многочисленную на Руси породу опустившихся интеллигентов, пообещала снабдить нас посудой, если мы наберемся терпения, поскольку ей понадобится сбегать домой. Дабы поощрить ее бескорыстную услужливость, я вручил ей пятьсот рублей, и такое доверие настолько ее тронуло, что она молниеносно возвратилась, тяжело дыша и кренясь под тяжестью сумки, полной бутылок, банок и прочих емкостей, среди которых оказалась даже одна пятилитровая канистра. Подобная честность, разумеется, требовала вознаграждения, и я выставил Потапычу и его достойной подруге полдюжины пива, не забыв при этом и себя с Юрием. Подкрепившись на дорожку пивом и наполнив все так удачно приобретенные сосуды, мы двинулись в обратный путь к нашим пенсионерам, зашли в знакомый подъезд, поднялись на нужный этаж, и — о ужас! — нам открыл совершенно незнакомый мужчина, а за его спиной просматривалась богато обставленная прихожая, ничуть не напоминавшая разыскиваемую нами коммуналку. Хозяин сухо уведомил нас о том, что мы ошиблись, и мы увидели перед собой запертую дверь. Гулкая тишина пустынной лестницы окружила нас. От огорчения и от выпитого пива в головах у нас зашумело, и мы поняли: нам только представлялось, будто мы точно знаем, куда должны вернуться. Выйдя на улицу, мы увидели напротив совершенно такой же огромный доходный дом дореволюционной постройки с тем же несметным количеством подъездов, которые нам, похоже, предстояло обойти. Вдобавок мы начали путаться и в том, на каком этаже находится нужная нам квартира. Памятуя о данном мною слове непременно вернуться, а также и о том, что в комнате Собинова остался мой любимый галстук, я воззвал к мужеству приунывшего было Юрия, и мы, повинуясь интуиции, начали планомерный обход обоих гигантских домов. Перед нами замелькали встревоженные семейные пары, разнообразные старухи, еще пару раз возник неприветливый хозяин самой первой богатой квартиры, тон которого во время нашего третьего по счету визита приобрел уже твердость и холодность дамасской стали… Одна из старушек, интеллигентная дама старой закалки, милостиво разрешила нам подкрепиться пивом у нее на кухне. Хотя сама она от пива отказалась, однако с интересом выслушала мои рассуждения о современной литературе, а по окончании визита пригласила нас заходить еще. Увы, я при всем желании не мог бы этого сделать, так как расположение ее квартиры затерялось в хороводе бесчисленных лестниц, дверей и лиц. И вдруг в дверном проеме очередной квартиры передо мной предстала красавица–брюнетка, при виде которой лишь выпитое ранее пиво позволило мне сохранить наружное хладнокровие. Подоплека моего потрясения была следующей: некогда именно с этой девушкой (назовем ее Мелиндой) Виктор Пеленягрэ явился ко мне, ища приюта на ночь и захватив с собой две бутылки коньяка в качестве платы за постой. Хотя, по его словам, он в ту ночь и добился от своей прекрасной спутницы высшей благосклонности, однако, во–первых, всем известно, что в своих речах Виктор склонен не столько придерживаться скучной правды, сколько лепить новую, праздничную действительность. Сама же гостья наутро следующего дня не признала себя побежденной. Во–вторых, за время их визита, растянувшегося до вечера следующего дня, я, не пытаясь, разумеется, притязать на достояние друга, проявил такую бездну галантности и остроумия (в этом мне, возможно, поспособствовало немалое количество выпитого коньяка — пришлось потревожить и собственные запасы), что Мелинда как дама в достаточной степени светская не смогла остаться равнодушной к столь выдающимся достоинствам. Наконец, в-третьих, продолжая знакомство с Мелиндой, Виктор выказал беспринципность и имморализм, беспримерные даже для Рима времен упадка, и потому в свою дальнейшую жизнь Мелинда унесла весьма различные образы двух куртуазных маньеристов: если Виктор походил на портрет Дориана Грея в его отталкивающей истинности, то я напоминал безупречного положительного героя классицистических трагедий или на худой конец тип благородного гуляки, столь часто встречающийся в позднейшей европейской драматургии. Если рассеянная жизнь приносит подобным персонажам лишь временные и несущественные неприятности, то благородство позволяет творить чудеса, и потому Мелинда была склонна приписать мой нежданный визит не одной только чистой случайности: похоже, он показался ей результатом длительных поисков, тем более что в вечер нашего с нею первого знакомства Пеленягрэ наотрез отказался поделиться со мной номером ее телефона. В откровенное до глупости объяснение нашего чудесного появления Мелинда поверить не пожелала, приписав его моей необычайной скромности. Видя ее искреннюю радость, я в порыве взаимности предложил ей, во–первых, пива, а во–вторых, соединить наши жизни; оба предложения были, как пишут в газетах, с благодарностью приняты. Расчувствовавшись под влиянием пива и столь театрального стечения обстоятельств, я приготовился тут же добиться от Мелинды высшей благосклонности и попытался заключить ее в объятия, однако в первый раз она со смехом увернулась (что не составило труда, поскольку я в то утро не отличался проворством), а от второй попытки я отказался сам, услышав бормотание Юрия о том, что цель нашего похода еще не достигнута, и вспомнив о своем пестром галстуке, который нежно любил. Расточая пылкие признания, клятвы и уверения в вечной верности, я расстался с Мелиндой, постаравшись вселить в нее самые радужные надежды, ибо убежден: надежды и мечты — лучшее, что есть у нас в жизни, а осуществление всегда либо невозможно, либо ущербно.
С тех пор я не видел Мелинду. Вы спросите, почему? Да потому, друг мой, что после развлечений и сумасбродств для нас с Вами неизбежно наступает период внутренней сосредоточенности и напряженной работы, не оставляющих места для сердечных увлечений. Праздный гуляка, создающий нечто значительное, — это, увы, лишь миф, или, точнее, лишь одна необходимая ипостась многосложного образа художника. Необходимость же такой ипостаси заключается в том, что повседневное существование постоянно предъявляет нам целый реестр своих условий, запросов и требований, большей частью ложных, от которых мы должны время от времени отгораживаться стеной из бутылок и замыкаться в стенах богемных притонов. Не зря Ронсар утверждал: «Я лишь тогда и мыслю здраво, Когда я много пью вина». Я не зря уделяю в своих письмах столько внимания нашему веселому времяпрепровождению: оно есть необходимая форма освобождения от власти рутинной обыденности, тем более что поэт в силу специфики своего дара не может защититься от нее размеренностью и упорядоченностью творческих занятий — в отличие, допустим, от прозаика или живописца. Сошлюсь на Эдмунда Спенсера:
Тому, кто ищет славы лирным звоном,
Свобода ради грозных слов нужна
С обильем яств и реками вина.
Недаром Бахус дружит с Аполлоном:
Когда в пирах мечта опьянена.
Стихи бегут потоком оживленным.
Возвращаясь к Мелинде, скажу Вам, что после нескольких весело проведенных дней у меня попросту очень долго не находилось на нее времени — как из–за необходимых, к сожалению, будничных дел, так и главным образом из–за усиленных творческих занятий, которыми я не считаю себя вправе жертвовать даже ради самых заманчивых обольщений этого мира. После столь значительного перерыва звонить Мелинде без веского предлога стало уже как–то неловко, затем подоспели новые сердечные увлечения… Не сомневаюсь, что и Мелинда тоже нашла с кем утешиться, оправдав слова того же старого весельчака Спенсера: «Так и любовь — мы с нею поспешим От старых бед к восторгам молодым».