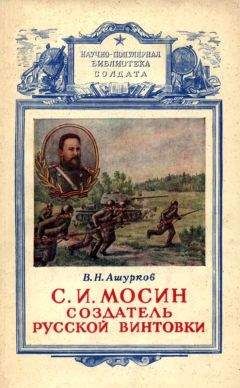Теодор Драйзер - Гений
На самом же деле то, что так смущало Юджина, было лишь видимостью. Рисунки, которые висели на стенах редакционных кабинетов, были во многих случаях нисколько не лучше его собственных, а возможно, и хуже. Их преимущество заключалось в массивных деревянных рамах и во всеобщем признании. Юджин не был еще мэтром, признанным в журналах, но в его ранних работах было не меньше огня, чем в картинах позднейшего периода. Последние отличались большей зрелостью письма, в них не замечалось уже такой нетерпимости к деталям, но экспрессии в них было не больше, если не меньше. Дело, однако, заключалось в том, что руководителям художественных отделов до смерти надоели молодые художники, приносившие им свои рисунки. Пусть немного помучаются, это пойдет им впрок. И Юджин повсюду натыкался на отказ, сопровождаемый скупою похвалой, которая была для него хуже уничтожающей критики. В результате он совсем пал духом.
Оставались, однако, газеты и журналы помельче, и Юджин неутомимо рыскал по городу, стараясь найти себе какую-нибудь работу. В двух-трех журнальчиках ему удалось получить заказ — несколько рисунков, в общей сложности на тридцать пять долларов. Нужно было еще платить натурщице. Теперь понадобилась и комната, которая заменяла бы мастерскую и куда можно было бы приглашать натурщиц. После долгих поисков он нашел в западной части Четырнадцатой улицы подходящее помещение — в конце коридора, окнами во двор, откуда можно было попадать прямо к нему по запасной лестнице. Комната стойла двадцать пять долларов в месяц, но он решил, что должен рискнуть этой суммой. Только бы получить несколько заказов, тогда можно будет прожить.
Глава XVI
Художественный мир Нью-Йорка весьма своеобразен. В период, о котором идет речь, да и долгое время спустя он состоял из разрозненных групп, почти не входивших между собой в соприкосновение. Особое место в нем занимали, например, скульпторы, человек тридцать-сорок, едва знакомых между собой; они злобно критиковали друг друга и предпочитали жить, замкнувшись каждый в тесном кругу близких и друзей. Свой, отдельный, мирок составляли и живописцы; они держались особняком от графиков и насчитывали в своей среде до тысячи, если не больше, человек, именовавших себя художниками. В большинстве своем это были мужчины и женщины, обладавшие достаточным дарованием для того, чтобы разок-другой добиться чести выставить свои работы в залах Национальной академии и от поры до времени продать картину или получить случайный заказ на декоративную работу или портрет. В городе было немало домов, где квартиры сдавались под студии: на Вашингтон-сквере, на Девятой и Десятой улицах, а также кое-где на Макдугал-эли или в кварталах между Вашингтон-сквером и Пятьдесят девятой улицей. Дома эти была населены живописцами, графиками, скульпторами, а также представителями различных видов прикладных искусств. Художники были больше связаны между собой, чем скульпторы, которые, впрочем, отчасти примыкали к ним. У художников было несколько клубов — «Салмагунди», «Кит-Кэт», «Лотос»; нередко устраивались выставки — тушь, акварель, масло, — сопровождавшиеся дружескими встречами, на которых можно было обменяться взаимными одобрениями и советами. В студиях на Десятой улице, в общежитии ХАМЛ[4] на Двадцать третьей улице, в студиях имени Ван Дейка и в ряде других мест художники часто селились вместе. В то время нетрудно было встретить такую небольшую группу лиц, вступивших во временное содружество, и даже присоединиться к ней, — если вы, как принято было говорить, оказались своим. Вне этого жизнь художника в Нью-Йорке протекала скучно, и он с большим трудом находил подходящую для себя среду.
Живописцам противостояли графики. В большинстве своем это была зеленая молодежь, к которой примыкали те, кто сумел снискать себе прочное расположение господ редакторов. Формально они не принадлежали к миру живописцев и скульпторов, но по духу были родственны им. У них тоже были свои клубы, а их мастерские всегда оказывались по соседству с мастерскими художников и скульпторов; поскольку графики пробавлялись больше надеждами на будущее, то они обыкновенно селились по трое-четверо в одной студии отчасти из соображений экономии, но также из чувства товарищества, чтобы поддерживать и вдохновлять друг друга в работе. В Нью-Йорке в ту пору существовало много таких групп, но Юджин, конечно, не знал о них.
Новичку требуется немало времени, чтобы обратить на себя внимание. Все мы должны пройти через годы учения, на какое бы поприще мы ни вступили. Юджин был одарен и преисполнен решимости, но у него не было ни жизненного опыта, ни близких друзей или знакомых. Этот город был такой чужой и холодный, и если бы Юджин с первых же минут не воспылал к нему безграничной любовью, он чувствовал бы себя в нем одиноким и несчастным. А сейчас он был весь во власти очарования, которым были исполнены для него прекрасные зеленые скверы — Вашингтон, Юнион и Мэдисон, изумительные улицы вроде Бродвея, Пятой авеню, Шестой авеню, и такие необычайные панорамы, как Бауэри при ночном освещении, Ист-ривер, набережные и Баттери.
Юджин подпал под гипноз таившегося в этом городе чуда, имя которому красота. Какие бурлящие толпы людей! Какой водоворот жизни! Гигантские отели, опера, театры, рестораны — все, все восхищало его своей красотой. Прелестные женщины в великолепных нарядах, вереницы желтоглазых экипажей, напоминавших чудовищных насекомых, приливы и отливы людских масс утром и вечером — вот что заставляло его забывать о своем одиночестве. У него не было ни лишних денег, ни надежд быстро добиться успеха, а потому он мог сколько угодно бродить по этим улицам, смотреть на окна домов, любоваться прекрасными женщинами и с жадностью читать в газетах о триумфах, ежечасно выпадающих на долю счастливцев, преуспевших в той или иной области. Газеты то и дело сообщали об авторе нашумевшей книги, об ученом, сделавшем новое открытие, о философе, выступившем с новой теорией, или о финансисте, основавшем крупное предприятие. Писали о готовящихся театральных постановках, о предстоящих гастролях приезжих знаменитостей, об успехах молодых девушек, впервые выезжающих в свет, и о шумных общественных кампаниях. Одно было ясно: слово принадлежит молодости и честолюбию. Если у человека выдающиеся способности — это лишь вопрос времени, когда о нем услышит мир. Юджин мечтал, что придет час и его торжества, но боялся, что очень и очень не скоро, и это часто повергало его в уныние. Перед ним лежал еще долгий путь.
Одним из его любимых занятий в те дни и вечера было бродить по улицам — и в дождь, и в туман, и в снег. Нью-Йорк притягивал его к себе и под косыми струями ливня и запорошенный снегом. Особенно любил Юджин площади. Однажды он увидел Пятую авеню в сильную метель, при свете шипящих дуговых фонарей, и на следующее утро поспешил к мольберту, чтобы воссоздать эту картину в черно-белой гамме. Ничего у него не вышло, — так по крайней мере ему казалось, — и, провозившись около часу, он с отвращением бросил кисть. Но такие зрелища привлекали его. Ему хотелось запечатлеть их на бумаге, хотелось увидеть изображенными в красках. Возможный успех в будущем служил ему единственным утешением в ту пору, когда на обед он решался потратить не более пятнадцати центов и когда во всем городе не было ни одной живой души, к кому он мог бы зайти перекинуться словом.
Характерной чертою Юджина было стремление к полной материальной независимости. Еще в Чикаго он имел возможность в тяжелые минуты написать домой и попросить помощи; он мог бы и сейчас занять у отца немного денег, но предпочитал заработать сам: пусть думают, что ему живется лучше, чем в действительности. Если бы кто-нибудь спросил Юджина, как его дела, он ответил бы, что не может пожаловаться. В таком духе Юджин и писал Анджеле, а то обстоятельство, что он все еще медлит со свадьбой, объяснял желанием добиться больших средств. Он изо всех сил старался подольше растянуть свои двести долларов и кое-что подработать мелкими заказами, как бы мизерно они ни оплачивались. Свои расходы он строго ограничил десятью долларами в неделю, и ему удавалось не выходить за пределы этой суммы.
Дом, где Юджин обосновался, не был, в сущности, предназначен для студий. Это было старое здание, занятое дешевым пансионом и меблированными комнатами, а также торговыми конторами. В верхнем этаже находились три полноценных комнаты и две темных каморки, и в каждой из них обитал какой-нибудь одинокий служитель муз. Соседом Юджина оказался мелкий работяга-иллюстратор, получивший образование в Бостоне и теперь утвердивший свой мольберт в Нью-Йорке, в надежде как-нибудь прокормиться. Вначале соседи мало общались между собой, хотя уже на второй день после переезда Юджин понял, что рядом с ним живет художник, так как в открытую дверь виден был мольберт.