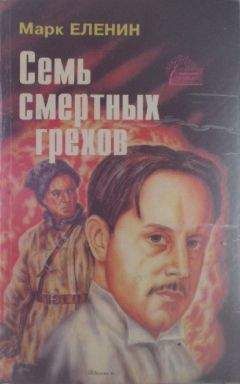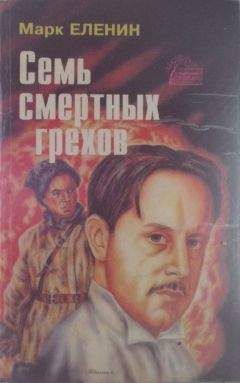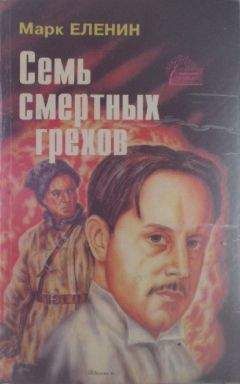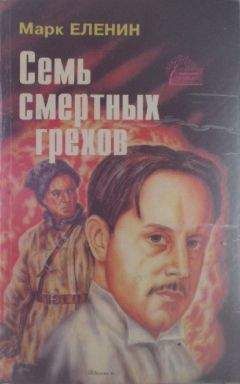Лейф Пандуро - Датчанин Ферн
Засыпаю. И тут же просыпаюсь. Мне снилось, будто я болен. И доктор Эббесен мне говорит: «Здоровье обретаешь в болезни».
Ну что ж, Мартин Ферн, давай поговорим. Зачем так цепляться за прошлое? Подумаешь, какая идиллия. Жужжание мух. Запах цветов из сада.
Встаю. Прохаживаюсь по комнате. На полках обычный ассортимент детских книг. Марриат. Петер Мост. Гредстед. Киплинг. Потрепанный экземпляр «Стильк и К°». Сажусь за письменный стол. Когда-то против меня сидел Ларс. Братья глядели друг на друга. Братья по крови.
На столе тетрадь по математике. Раскрываю ее. Круги, параболы, эллипсы.
Ящик стола заперт. Мартин Ферн открывает его своим ключом. Сверху пустые гильзы патронов. Пачка сигарет. Черный вонючий табак. Обкуренная трубка. Фотографии. Мальчик Томас на горном пике. Он в шортах и белой шляпе. Широкая улыбка. Групповой снимок школьников. Слева Мартин Ферн и Томас Симонсен. Стоят обнявшись. Странные, старомодные платья девочек. Широкие накладные плечи, гольфы, длинные локоны.
Еще в ящике пластилин, чертежные перья, линейка, пузырек засохших чернил, букашки, приколотые булавками к винным пробкам, старые карманные часы.
Следующий ящик. В самом низу дневник. Листаю. Летопись дней рождения, выездов на рыбалку, теннисных матчей. Тайные знаки, смысл которых давно забыт. Вот имя какой-то девочки: Бирта. Внизу под именем крестики. Что было у тебя с Биртой, Мартин? Робкий поцелуй, свежий как утро? Или, может, нечто большее? Ответа нет. Еще одно имя: Соня. И снова крестики. Школьный бал. Я учусь играть на гитаре. Мы едем на дачу. Каникулы. Дальше — война. Отцу пятьдесят лет. Выступаю с поздравительной речью. Лилиан. Студенческий бал. Первое упоминание об Эллинор. «Я поцеловал Эллинор!» Три восклицательных знака. «Всю ночь с Эллинор!» В дневнике карточка Эллинор в лыжном костюме. Широкие черные брюки. Исландский свитер. Лыжная куртка. Снимок сделан в горах. Приплывают обрывки былого. Снег. Резвимся в снегу. На девушке вымокла вся одежда. Она смеется. Ноют натруженные мышцы. Сплю как сурок. Еще карточка. Школьный спектакль. Над головой одного из артистов крестик. Это Ларс. Загримирован под старика. Ставим «Проделки Скапена». Еще фотография Ларса. Светлые волосы. Высокий чистый лоб. Волнистая шевелюра. Он глядит прямо в объектив. Улыбается.
Последняя запись в дневнике — 3 мая 1945 года.
Что было дальше, не знаю.
Открываю средний ящик стола. Здесь банки со старым хламом. Ластики. Мышиные зубы. Кошачий череп. Заспиртованная медянка. Страницы гербария.
В самом низу фотографии голых женщин. Журналы: «Друг солнца», «Коктейль». Листаю. Старомодные костюмы, длинные мундштуки, обнаженные груди, высокие цилиндры. Ноги. Бедра. Влажные многообещающие улыбки. Наверно, все это казались молодому Ферну необыкновенно заманчивым. Видно, что он усердно листал журналы. На полях отпечатки грязных пальцев.
Снова появляется Камма.
— Что ты здесь делаешь?
— Гляди!
Протягиваю ей номер «Коктейля». Она брезгливо перелистывает страницы.
— Да, это на тебя похоже!
— Ну зачем так?
— Как ты открыл ящик?
— Подобрал к нему ключ. У меня их целая связка…
— Ты и за мной подглядывал!
— Час от часу не легче!
— Как-то раз тебя застал отец…
На ее лице играет радостная улыбка.
— Ну и что?
— Он тебя отколотил!
— Может, он и сам был не прочь за тобой подглядывать!
Глаза сестры мечут молнии.
Кладу каждую вещь на свое место. Запираю ящики и шкаф.
— Ну вот, а теперь уходи!
— Нет… я хочу еще раз поговорить с отцом!
— Он спит!
— Я подожду, пока он проснется…
— Эллинор звонила сюда!
— Зачем?
— Хотела знать, где ты!
— А сама она где?
Снова эта злорадная улыбка. Сестра все знает про Мартина Ферна. Только мне ничего не дано узнать.
Иду к книжной полке. Беру книгу, листаю. Оттуда вываливаются открытки. Усатые французы, дамы, возлежащие на диванах. Пальмы, ботинки с высокой шнуровкой.
— Какой любознательный ребенок!
— Ты был мерзким мальчишкой!
— Серьезно?
— Да!
— Ты лжешь!
Она застывает у письменного стола. Выжидающе глядит на меня.
— Эллинор хочет с тобой развестись!
— Да, я слышал об этом…
— А зачем ты сбежал от полицейского?
— Помолчи немного… Я скоро уйду. Больше ты меня не увидишь!
Выхожу из комнаты. Камма выходит вместе со мной. Спускаюсь по лестнице вниз. Выхожу в сад. Дом стоит как угрюмый утес среди волн. Из соседнего сада доносится жужжание машины для стрижки газонов. Наверху, в комнате братьев — Мартина и Ларса, — по-прежнему открыто окно. Появляется Камма, сердито его захлопывает. За стеклом смутно белеет ее лицо. Она неотступно следит за мной.
Подхожу к буйно разросшейся изгороди. Рокот машины в соседнем саду тотчас смолкает. Над изгородью появляется лицо старой дамы в головном платке.
— Безобразие! — говорит она. — Скоро вы положите конец этому безобразию?
— К сожалению, я не в курсе!
— Это возмутительно. Мы будем жаловаться…
— Куда?
— В комиссию по уходу за изгородями!
— А есть такая комиссия?
— Надо же куда-то пожаловаться!
— Ну конечно!
— Почему вы не следите за своим участком?
— Отец умирает!
— Вот уж десять лет, как мы слышим эту песню!
— Он скоро умрет!
— Союз домовладельцев уже сделал ему третье предупреждение!..
— Подите к черту! — говорю я.
Она замирает с раскрытым ртом.
Я обошел весь зачарованный сад. Вернулся в дом. Сестра Камма скользнула за мной как тень.
— Чего ты боишься? — спрашиваю я.
— Тебя я нисколько не боюсь!
Иду в гостиную. Сажусь. На стенах рисунки, несколько картин, писанных маслом. Натюрморты. Морские сцены. Романтика.
— Ты не хочешь, чтобы мы подружились?
Сестра улыбается прежней зловещей улыбкой.
— Нет! — говорит она.
Чуть позже:
— Почему ты не уходишь?
— Хочу еще раз увидеть отца!
— Он спит!
— Я подожду, пока он проснется.
— Зачем ты его мучаешь?
— А ты зачем его мучаешь?
— Я?..
— Да, ты…
— Но он ведь тоже меня мучает!
— Значит, я правду сказал!
Краска заливает ее лицо. Она разражается негодующим визгом:
— Ты смеешь говорить это мне! Мне, ходившей за ним столько лет!.. Я могла выйти замуж… Не раз представлялась возможность… Но я осталась с отцом! Это ты всегда думал только о себе. Пьянствовал… Путался с бабами…
В соседней комнате проснулся отец. Застонал. Иду к нему, присаживаюсь рядом. Он открывает глаз и глядит на меня. Сон медленно обращается в жизненный кошмар. Отдых — в продолжение пытки.
Комната — мрачная часовня. Символ болезни. Одиночества. Смерти.
Камма садится на диван, под портретом какого-то Ферна в преклонном возрасте. Тот же нос, чуть свернутый набок. Бакенбарды. Светлые, серые глаза. Он сидит, засунув большие пальцы под край жилета. Крепкий мужчина. Гордый своей непогрешимостью.
Старик в качалке здоровым глазом следит за мной. Больной глаз по-прежнему глядит в пустоту — весело и безмятежно.
Оборачиваюсь к Камме.
— Скажи, что за человек он был?
— Кто?
— Наш отец.
Здоровым глазом старик тревожно оглядывает нас.
— Что это значит — какой он был человек? Что ты хочешь узнать?
— Ну, к примеру, как он держался с нами? Возился он когда-нибудь с детьми, шутил, плясал?
— Сейчас не время говорить о таких вещах!
Оборачиваюсь к старику. Видящий глаз широко раскрыт. Здоровым уголком рта он пытается изобразить улыбку. Но получается лишь безумная гримаса.
Наклонившись, поглаживаю руку отца.
Сестра настороженно наблюдает за нами.
— Оставь эти шутки!
Его рука дрожа поднимается кверху, хватает мою. Все тело его дрожит.
— Что ты с ним сделал?
Наконец старик прочно ухватил мою руку. Какие холодные у него пальцы. Его дрожь передается мне. Из бессильных старческих губ вырывается сдавленный звук.
— Смотри, что ты с ним сделал… он плачет…
— Он смеется, — говорю я. — Не правда ли, отец, ты смеешься?
Он кивает несколько раз. Затем глаз закрывается.
— Ему пора выпить лекарство.
Он слабо пожимает мою ладонь. Потом бессильно опускает руку.
— Он спит! — говорю я.
— Уйди же наконец!
Сестра вплотную подступает ко мне. Грудь ее бурно вздымается. Выхожу из комнаты. Сестра идет за мной. Направляюсь к выходу.
— Он тебя ненавидит! — кричит она. — Да, ненавидит! Он сотни раз это говорил. Он никогда тебя не простит.
— Ясно…
— Таких, как ты, не прощают…
— Я ухожу. Отец скоро умрет…
— Не твое дело…
— Что ж…
Какой-то миг она глядит на меня. Потом резко захлопывает тяжелую входную дверь.
Иду по каменным плитам к калитке. Выбираюсь на улицу. Дом за калиткой — как крепость. Как оплот злобы.