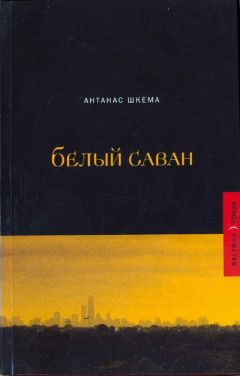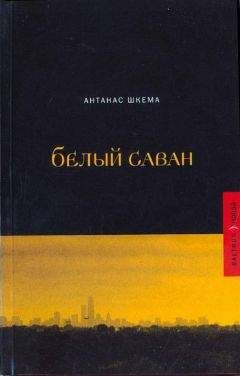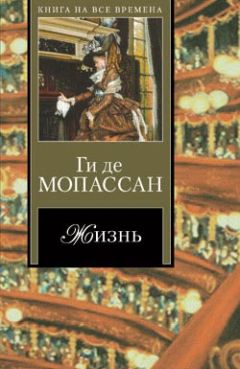Антанас Шкема - Белый саван
— Я всегда буду любить тебя, мама, — сказал я.
— Люби, Антанук. А теперь спи. Покойной ночи.
Больше она об этом не заговаривала, хотя я и пытался иной раз ее спровоцировать.
Все эти муки по поводу Музнеровского, было ли это началом болезни? Трудно сказать. Знаменитый психиатр подтвердил, что мать унаследовала шизофрению. И развязка должна была когда-нибудь наступить. Вся беда в том, что отец не сразу среагировал на начавшуюся болезнь.
Точной даты я не помню. Так бывает. Словно здоровая мать — несбывшаяся мечта о будущем, а больная — реальная повседневность.
В то время отец играл вариации Wieniawsky учительнице немецкого языка. Учительница — пожилая вдова, коренастая, с кривыми ногами, нос, как у Гёте, а волосы черные и жесткие. Она напоминала мне замызганную одежную щетку, потому что ее жирная кожа блестела. И все равно она была красивее моей матери. Не понимаю, как это случилось. Куда делись светлые волосы, удлиненный овал лица, большие и влажные глаза, густые ресницы, тонкая талия, полные, но не отвислые груди? Куда исчезли ее пластичные, с ленцой движения отдыхающей цыганки, мягкий рисунок губ? Гипноз ее пальцев, эти легкие касания, когда каждый палец смыкается с другим, словно ноты, выведенные рукой влюбленного композитора? Еще давно отец принес и повесил на стену большую фотографию матери. И мать покраснела, как-то странно взглянула на отца, и он, единственный раз у меня на глазах, обнял и поцеловал ее в губы.
Теперь это была отвратительная женщина. Кожа обвисла. Подбородок, щеки, грудь сделались какими-то тряпичными, болтались, точно мокрое белье на веревке. Запекшиеся губы напоминали печать. Тяжело раскачивалось обрюзгшее тело на набрякших ногах. Светлые волосы торчали космами, как у ведьмы. Зубы она не лечила, во рту зияли черные дырки — совсем как глазницы черепа.
И все-таки она убирала комнаты, латала белье, пыталась целовать меня на ночь. Речь ее сильно опростилась. Она двигалась и работала с какой-то обреченностью, словно приговоренный к смерти, который знает, что умрет в тюрьме. Ее воображение оживало во время припадков. Начинались они всегда неожиданно, всякий раз отцу и мне казалось, что это впервые. Поначалу они совпадали с определенными периодами, и какой-то провинциальный врач наобещал, что мать излечится после того, как эти периоды прекратятся. Возможно, это обещание или неизжитая сентиментальность удерживали отца от окончательного решения.
Припадок. Прежде всего — просветление. В глазах матери оживала прежняя нежность. Вся она делалась какой-то легкой, подвижной. Как старушка, вспомнившая молодость. Мы видели, ей хочется сказать нам что-то приятное, и она подбирает слова. Это усилие даже пугало нас. Мы настороженно выжидали. Сейчас все начнется, сейчас начнется, припадка уже не избежать.
— Рыба. Красивая рыба. Серебряная, — приговаривала мать, и ее пальцы шевелились. Так старая и располневшая балерина показывает, какой грациозной она была когда-то. Она устремляла свой взор на отца. Отец обязан был ответить, этого неотвратимо требовал ее пристальный взгляд. Он пытался найти выход полегче.
— Какая рыба, мамуля?
— Серебряная. Она плывет. Помнишь? — мать сдержанно фыркала, и в этом смехе была некая таинственность. — Я всегда говорила, она не умеет варить клубничное варенье. Ни одной целой ягодки. Мало кладет сахара. Что, моя правда?
— Твоя, мамуля, — откликался отец бесцветным голосом.
— Ха-ха. Моя правда, моя, моя, ха-ха. Архангельск — тоже неправильно. Должно быть — Ангельск. Там снег и кружева. А крылья у архангелов вот такие.
Мать вставала и поднимала вверх свое вышивание. Вышивала она уже два года. На замызганном холсте красным крестиком был изображен неправильный орнамент. Этот лоскут означал скатерку, которую она расстилала на ночном столике.
— Верно. У архангелов именно такие крылья, — безропотно соглашался отец.
— Ты считаешь? Ты так считаешь? Считаешь, да?
Мать стояла и ждала ответа. Ответ должен разрешить вселенские проблемы. Она смотрела на отца так, будто тот воскрес из мертвых и теперь явился с того света.
— Я убежден, — отвечал отец. Мать вдруг успокаивалась. Снова садилась. И говорила очень обыденно: — Не думай, что я не знаю. Мне все известно. Ты играешь для учительницы немецкого языка. Играешь, а она — моя, первый раз — для меня играл. Мне раньше играл. Дура твоя учительница.
Моя мать хихикала с видом победительницы. Вредный прокурор выкладывал веские доказательства, сейчас виновный будет наказан, мысленно приветствовали это решение все, кто присягал.
Отец вскакивал. Автоматически поворачивался к висевшей на стене скрипке, но не играл, а направлялся прямо к двери.
— Нет, погоди, погоди, погоди! Раз уходишь, и я больше не твоя, забирай свою одежду, она не моя, не моя!
Тогда я сжимал лицо, не выносил все это. Жутко было видеть происходящее, но и уйти я не мог. Ноги прирастали к полу. Я царапал ногтями себе лицо и слышал отвратительные слова.
— Ты суешь свое тело в ее тело, что ж, суй, суй! На, бери, бери!
— Замолчи, замолчи! — кричал отец.
В красной тьме я слушал этот дуэт. Так могли петь те, кого жгли каленым железом. Господи, отчего я был так слаб? Почему тогда не умел кричать громче их? Почему не мог корчиться на полу, нагоняя страх на других? Я бывал охвачен ужасом. И мог лишь, сцепив пальцы, наблюдать за всем.
Платье и белье матери валялись тут же. Я видел цветы на платье, розовую рубашку, комки чулок. Буря миновала, она сорвала тряпки и набросила на мать черное, короткое одеяние, которое застегивалось под горлом на крючки. Это дождевик еще времен ее девичества. Руками мать придерживала полы дождевика. Возле дверей замер побледневший отец. Тихо. Медленно раздвигался занавес, предстояло досмотреть последнее действие.
Этим криком все завершалось. То был крик единственного, погибающего на земле человека. Я совершенно ясно видел, как дрожит у матери горло. Старая примадонна брала самую высокую ноту. Кровь приливала к щекам отца. Он кидался к письменному столу, вытаскивал никелированный револьвер с барабаном и приставлял дуло к виску. Водил им, совсем как кисточкой для бритья.
— Я застрелюсь, застрелюсь!
А мать продолжала вопить. Отец, отбросив револьвер, подбегал к ней, опрокидывал мать на диван и бил кулаками. Полы дождевика расходились, и я видел голое, жирное тело собственной матери. Теперь она уже не кричала, а выла, словно раненый зверь. И тогда я бежал на улицу и звал на помощь.
Затем все происходило, как в тумане. Успокаивающие соседи; одетая женщинами мать; отец, распластанный на диване; чьи-то голоса, убеждающие меня в том, что я — несчастный ребенок.
А на стене висела скрипка. И на обеденном столе лежали яблоки и груши. Возле нашего дома росли липы. В июле месяце витал липовый дух. Мои друзья играли в разбойников и в детективов. В городском кинотеатре всех смешил Чарли Чаплин, а в костеле ксендз пел хорошо поставленным баритоном. И я уже по-другому смотрел на девочек, читал, мечтал. Мне хотелось жить. Как и большинству.
Наконец отец принял решение. Я был единственным, кому мать верила. Поэтому я совершил обман. Убедил мать: мы с нею вдвоем едем отдыхать в Палангу. Она радовалась дороге. Все время заговаривала со мной. Болтала о том, что я хороший сын, что мне нужно побольше есть, а то вон какой тощий. Она расспрашивала меня про мою учебу, книги, товарищей. Мы ехали с ней на автомобиле, водитель был предупрежден, он молчал, мы были как бы одни — закадычные друзья. Ей понравилось шоссе, деревья, избы, женщины с ведрами. Выглядела она совершенно нормальной. Под вечер мы въехали в ворота и остановились у здания из красного кирпича, на котором было написано: «Психиатрическая больница».
Водитель, санитары и я с трудом выволокли мою мать из автомобиля. Она не кричала. Она смотрела. Наверное, так смотрела бы душа умершего человека, узнай она, что на том свете есть ад.
Этот прощальный материнский взгляд мне мерещился, когда мои учителя втолковывали мне, что мир сотворен под знаком Добра, Красоты и Гармонии и что человек сам виноват в своих несчастьях.
— Я не стал ей звонить в свободный день, — рассказывает Stanley. - Yea. Пошел к ней домой. Дверь была заперта. Решил подождать на улице. И прождал два или три часа. Она вернулась в обнимку с тем самым клерком. Я уложил его за пару минут. А потом лег с нею. Во второй раз я поймал клерка у нее в комнате. Он уже был одет и успел улизнуть. И снова мы легли в постель с нею. Погоди! Сейчас вспомню. Psiakrew. Правильно я произнес?
— Правильно.
— Видишь, во мне заговорила кровь предков. Вот так и таскаюсь к ней. Psiakrew. Даже не представляешь себе, до чего хорошо она это… понимаешь? Kocham. Dzi? — kuj?. Yea.
— А Моцарт?
— Моцарт? He могу сесть за инструмент. Сразу хочется вырвать клавиши и разломать его к черту. Видишь, руки дрожат? Однажды мне предложили сыграть на электрооргане в таверне. Отец тогда болел, нужны были деньги. Ты слушал когда-нибудь этот гнусный ящик? Исполнять на электрооргане заказные вещи! Сущий ад. Yea. Как будто Бах или Гендель вдруг сошли с ума. Стал играть, а в таверне быстро приучаешься пить. Yea. К Моцарту уже не возвращался. Все верно. Раз так, выходит, я не создан для Моцарта.