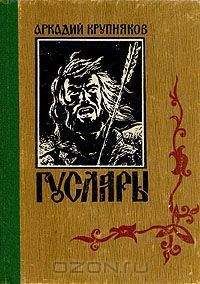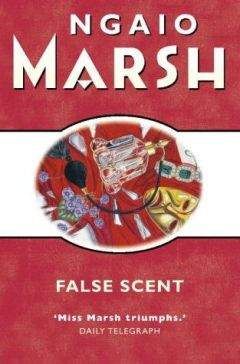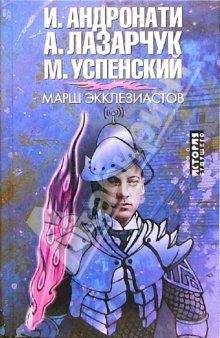Джина Лагорио - Она и кошки
В день, когда разразилась гроза, Тоска не находила сил подняться с постели и вся обливалась холодным потом. Поняла, что происходит, только когда волна свежего воздуха, с грохотом распахнув окно и разметав занавески, ворвалась в комнату.
Тоска удивленно огляделась и попробовала встать, чтобы закрыть двери и окна. Но не держали ноги, дрожь охватила все тело, и она испугалась. С трудом добравшись до кухни, растворила в воде ложечку соды, выпила и вроде сразу почувствовала себя лучше. Вспомнила, как мать этим способом лечила дедушку, когда тому становилось так плохо, что он не мог произнести ни слова, только сидел мешком на стуле, бледный как полотно.
Из всех воспоминаний о дедушке лучше всего сохранилось ощущение того терпкого, кислого запаха. Мать, положив ему на лоб смоченную в уксусе тряпку, не переставала укорять дедушку за то, что он слишком часто заглядывает в рюмочку. Потом врач определил у него диабет. Дедушка ненавидел инсулин, называл его «мое рабство»; дома, под надзором матери, он соблюдал режим, но не упускал случая нарушить его в остерии, и всякий раз после этого ужасно мучился. Мать, немного приведя его в чувство, меняла пропотевшее белье, укладывала в постель, и дальше повторялся один и тот же грустный сценарий: жалобы, упреки, ссоры. Дедушка стал все реже появляться дома. При первой же возможности, как кот, выскальзывал за дверь и вел бродячую жизнь. Умер он рано, конечно, мог бы еще пожить, если бы слушался наставлений матери. Но Тоска его понимала: уж лучше умереть до срока, но свободным, чем влачить жалкое, зависимое существование. На самом деле она обманывала себя, рассуждая так, пыталась заглушить внутренний страх и втайне надеялась, что кто-нибудь, догадавшись обо всем, заставит ее лечиться.
С грозой изнуряющая жара спала, отдыхающие, видимо соскучившись по привычной жизни, начали понемногу разъезжаться.
Уехали и гости Джиджи; у него и у молодых социологов снова застрекотали пишущие машинки. Тоску распирало любопытство: чем же окончилась история, начавшаяся в ту ночь на волшебной лунной дорожке? А может, ее и не было вовсе, может, все это ей приснилось?.. Пляж и море вдруг посерели, поблекли, все чаще задувал северный ветер. У Тоски сжималось сердце при мысли о том, что лето подходит к концу.
Скоро берег совсем опустеет, разберут кабинки, вытащат на берег лодки; она напоследок посудачит со сторожем, который, окончив дела, вернется в Онелью. На пляже останутся только она, кошки да чайки.
10
Нет, она слишком рано забила тревогу: взамен отбывших приехали другие отпускники, солнце снова засияло, но дышать стало легче, потому что по утрам дул свежий ветерок, а ночи стали прохладнее.
И все же Тоска не могла преодолеть душевный кризис, охвативший ее во время первой грозы; он оказался таким сильным, что у нее даже начали появляться провалы памяти. Дедушка тоже нередко забывал, какое сегодня число, как называется та или иная вещь, что у него в карманах. Мать ругалась: ему нельзя было поручить даже самое пустяковое дело. Достаточно нескольких анализов — и подозрения подтвердятся. Диабет — болезнь наследственная, и в тот ужасный момент реакция ее была инстинктивной, она сразу вспомнила, что давали дедушке до того, как начали колоть инсулин. Сода помогла, и это только усилило ее страхи. Изо всех сил стараясь не поддаваться панике, она все время обновляла меню — свое и кошачье — и тщательнее обычного мыла лестницу, окна, ухаживала за растениями. Но летом за работой всегда мучит жажда, хочется выпить. Тоска всякий раз, еще до того, как уступить соблазну, чувствовала себя виноватой. Пристрастие к алкоголю она считала пороком сродни рукоблудию, которого должно стыдиться. Но она неизменно находила себе оправдания, обвиняя судьбу, лишившую ее человеческого общения, сделавшую кошатницей, которая вызывает брезгливое чувство у тех, кто богаче и счастливее. Теперь, когда она была почти уверена в своем заболевании, тайный порок автоматически превращался в смертный грех. В тяжкий грех самоубийства — ведь его даже Господь не прощает.
Тоска всегда испытывала ужас перед насильственной смертью. Стоило ей прочитать или услышать о каком-нибудь жутком случае самоубийства или зверском убийстве, она тут же стремилась на улицу, к людям, только бы не быть одной. Она уже не верила, что ее тусклое, убогое существование когда-нибудь изменится, но мирилась с этим как с неизбежностью. В церковь она ходила лишь затем, чтобы побыть немного среди людей, но там, как ни странно, чувствовала себя более одинокой: чужие лица, на всех полное равнодушие к ней и ее судьбе. А Он там, наверху, вряд ли ее жалует, иначе не бросил бы одну в пустоте бороться с болезнями и утешаться лишь воспоминаниями, которые уж никто у нее не отнимет. Несколько раз она пыталась убедить себя, что, чем жить такой жизнью, лучше разом оборвать все страдания. Но что-то мешало поверить в полную бессмысленность собственной жизни. Жила же она ради Миммо, теперь может жить для Поппы или какого-нибудь другого создания, нуждающегося в защите. А гнетущий страх, тревогу можно унять, заглушить, подавить, опустившись в хмельную негу. Конечно, это трусость — бежать от настоящего, искать забвения, но трусость вполне объяснимая, достойная сострадания. Если Бог есть, он наверняка снисходительно посмотрит на нее, потрясет огромной белой бородой и не отправит ее в ад только за то, что она пыталась забыться в четырех стенах, где никого нет, кроме призраков и кошек. В памяти всплывали образы убогих, нищих, которые в мороз спят на скамейках, завернувшись в газеты, ходят в лохмотьях, с протянутой рукой. Она вспомнила пьесу Бертолацци «Наш Милан»: ей в общем-то понравилось, но после она сказала Марио, что предпочитает другой театр, где светло, весело и не щемит сердце от этой серой беспросветной нищеты. А еще они часто спорили, надо ли защищать от несправедливости людей, покорно терпящих оскорбления. Марио считал, что у каждого хватит собственного достоинства, чтобы защитить себя и жить по-человечески. Но тогда почему его жизнь, от которой будто лучились чистота и тепло, оборвалась так глупо и несправедливо? А ведь однажды случай спас ему жизнь, отняв ее у тех солдат, его товарищей. Возможно ли, спрашивала себя Тоска, чтобы теперь судьба в равной мере ожесточилась на меня из-за пристрастия, которое всем так или иначе прощается? Неужели единственная слабость, единственная отрада и спасение в этой пустоте, где ей выпало жить, должны привести к смертельному исходу?
Она барахталась в паутине сомнений и в конце концов всякий раз уступала преступной тяге, караулившей ее, словно ядовитая змея. Правда, ее немного отвлек начавшийся чемпионат мира по футболу. Как-то днем она сидела дома и безуспешно пыталась отделаться от одного жуткого воспоминания. Вскоре после войны они куда-то поехали с матерью и, не найдя гостиницы, были вынуждены провести ночь на вокзале. Прямо напротив них лежал пьяный; у него все торчало наружу из расстегнутой ширинки выцветших бесформенных штанов, и она, девочка, все время невольно смотрела туда, хотя мать несколько раз пересаживала ее на другое место. От той ночи у Тоски осталось чувство стыда и омерзения, преследовавшее ее по сю пору.
Внезапно она вздрогнула от победного многоголосого рева. Выглянула на улицу: никого — и тут поняла, что рев доносится из открытых окон, где сидят люди и лица их обращены в одном и том же направлении. Ну конечно же, чемпионат мира. После смерти мужа Тоска разлюбила спортивные соревнования: уж слишком они напоминали Марио, страстного болельщика, заражавшего и ее своим энтузиазмом. Поэтому теперь, как только на экране телевизора появлялись футболисты, теннисисты или другие спортсмены, она тут же переключала на другую программу.
А тут рука машинально потянулась к телевизору, хотя и черно-белому, но многоканальному, — с ним и с телефоном она ни за какие сокровища не согласилась бы расстаться. Через несколько минут, позабыв о своих мыслях, Тоска уже с увлечением следила за матчем: итальянцы играют с Бразилией, и вряд ли им удастся победить, даже ей это известно, ведь, поливая в саду, она поневоле слышит праздные споры мужчин, рассевшихся в шезлонгах у зарослей бугенвиллеи. Вот, грустно отметила она, мы все настолько привыкли к плохим новостям, скандалам и преступлениям, что даже в спортивных соревнованиях не надеемся на удачу. И все же игра производила впечатление: итальянцы, как ей показалось, действовали напористо. А что, если все-таки победят? Она стала болеть за них, веря, что особенно сильные желания передаются на расстоянии. Вот так же она когда-то поджидала Бруно в темноте у окна, выходившего на берег, и всякий раз, когда он показывался из-за угла, Тоска видела в нем как бы ответ на ее призыв, воплощение ее желания. На втором голе Тоска вскочила как подброшенная. Фифи (она, видно, забеременела, потому что вернулась домой и ни на шаг не отходила от хозяйки) вылетела из-под плетеного стула венской соломки и испуганно шарахнулась в сторону. Но Тоска самозабвенно аплодировала и вопила, как все в соседних домах. Эти ребята, безусловно, дрались и за нее.