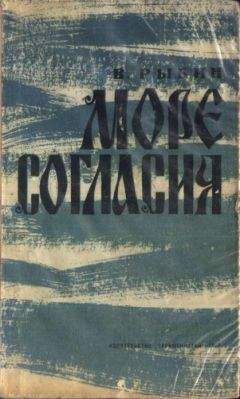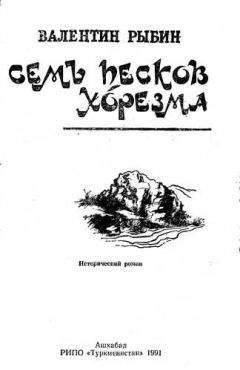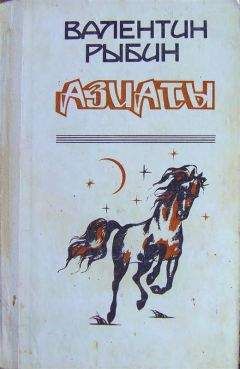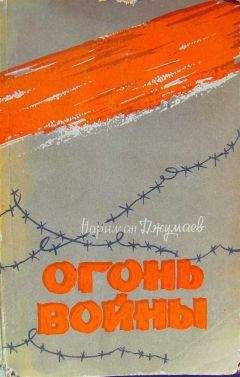Владимир Петров - Черемша
После ухи дед дремал на чурбаке, а парни спорили негромко, переругивались. Степан комсомольскую линию свою проповедовал, дескать, мы наш, мы новый мир построим, а кто не желает или будет мешать, того за ушко да на солнышко. Потому как диктатура пролетариата есть власть трудового народа, абсолютного большинства, и всякие хлипкие элементы во внимание не принимаются. Новый мир — это огромная задача и строить его должны суровые люди.
Гошка тоже был за новый мир, за диктатуру пролетариата, по чтобы без чоха, а о подходом к каждому человеку. А может, у того человека своё умное слово, своя идея насчёт победоносной мировой революции?
Степан обозвал Гошку "уклонистом" и ещё как-то заковыристо, а также сказал, что он ни бельмеса не смыслит в революционной теории.
— Цыц вы! — очнулся от крика дед, придвинул чурбан поближе к огню. — Ишь, расчуфыркались, будто глухари на токовище. Житухи не хлебнули, а уже спорите. Вот, понимай-ка, что скажу: все беды человеческие идут от неверия. Я, к примеру, верующий, мне к чему спорить? Ты, комсомолец, тоже, стало быть, веруешь.
— Не верую, а верю, — поправил Стёпка.
— Всё едино, как ни называй. Главное дело — стержень есть, стало быть, жизнь понятная и впереди всё видать. Першпектива называется, понимай-ка. А вот Гошка, опять же, кто он такой? Обормот и стрекулист, потому как ни бога, ни черта не признаёт, ваши науки тоже не исповедует. Болтается, как дерьмо, прости господи. Я ему каждый раз говорю: прибейся к берегу, поздно будет! Ржёт жеребцом, да и только.
— Я в самого себя верю, — важно произнёс Гошка.
— Во-во! — завозился дед, ехидно ощерил щербатый рот, выставив два оставшихся зуба. — Вот оно самое паскудство и есть. Себя лелеять, себя возносить, на себя молиться — хуже греха не бывает. Да кто ты есть, Гошка? Понимай-ка! Тлен, срамота, и ничего больше. Сегодня ты есть, а завтра нет тебя, и пахнуть тобой уж не пахнет. Верить надо вечному, истинному, понял ты, обмен согринский?
— Понял, понял! — отмахнулся Гошка. — Ты не тужи, дед, я однако скоро в комсомолию подамся. Примешь меня, Степан, ай нет? Молчишь, сомневаешься. Ну да ладно, горевать не стану. Через год в армию подамся, лихим кавалеристом заделаюсь. Эх, приеду я к тебе, дед, весь в ремнях и при сабле, да как отбацаю "яблочко"! Ходи туды-сюды колесом изба, коромыслом деревня!
— А, пустомеля… — отвернулся дед, притянул к себе седую морду Нагая. Поглубже запахнул брезентовый плащ, поёжился. — Холодит… К долгому вёдру, к долгой жаре. Вон, вишь, по небу сивина куделью распушилась?
Зенит над головой стал густо-фиолетовым, чернильным, вспух по самому центру серебристой Молочной дорогой, о которую изредка искристо, как о наждак, чиркали падающие звёзды.
Высоко в листвяжнике ухал филин, разливая в ночи тоскливую тревогу…
— Дед, а война будет? — неожиданно спросил Гошка.
— Чаво?
— Война, говорю, будет али нет? Народ болтает.
— Будет, — кивнул дед. — И однако скоро, года через три-четыре. Большая война будет, упаси господь!
— Почём знаешь?
— Коли сказываю, так знаю, — дед сердито пошуровал палкой в костре, зевнул, перекрестился. — Война, понимай-ка, вроде грозы — тоже загодя пахнет. Вот я тепереча чую, идёт война, наближается.
— Как это чуете? — усомнился Стёпка. — Газет вы не читаете, кинохронику не смотрите, радио у вас и в помине нет. А войну предсказываете. Странно даже.
— И предсказываю. А как же? Потому как людей вижу. Ты погляди-ка, какие теперь люди стали? Дёрганые, хлопотные, неуступчивые, ни себя, ни других не жалеют. На иного посмотришь, а у него, сердешного, внутри все жилы натянуты, все жданки наизнанку — вроде на медвежью берлогу собрался. Народ-то тоже понимает, что к чему. Вот оно как.
— Нас война не испугает, — громко сказал киномеханик. — А если нападут проклятые фашисты, ответим на удар врага сокрушительным тройным ударом.
— А я сразу на фронт подамся! — решительно заявил Гошка. — А уж оттуда возвернусь героем. Это как пить дать.
— Эх вы, воители… — дед хмуро покачал головой. — Не дай вам бог повстречаться с той самой войной. Спаси и помилуй от неверия, а от бахвальства оборони.
Глава 12
Барачная завалина была сыроватой от ночной росы. Фроська присела, положила рядом торбу, удивлённо огляделась: как она оказалась здесь, как и почему снова вернулась сюда?
Вспомнила пихтовый косогор, шершавую кору лиственницы, представила улыбающееся обветренное лицо Вахрамеева, и снова сладко закачался мир, поплыло, заколыхалось в глазах прохладное утро…
Они вдвоём спустились по тропе с горы, шли рядом, держась за руки, а сзади шумно фыркал, тряс уздечкой гнедой председателев мерин. Они о чём-то говорили, чему-то смеялись — она сейчас ничегошеньки не помнила.
Потом у моста Вахрамеев свернул в улицу и ушёл, так и не обернувшись, ведя лошадь в поводу, А она пришла сюда, к бараку. Зачем?
Просто ей ещё нельзя уходить из Черемши, Не настало время.
А может, она навсегда останется здесь? Может, это судьба?
Она жмурилась выходящему солнцу и сквозь полуприкрытые ресницы виделся ей янтарно-розовый разлив: розовые скалы на другом берегу реки, розовые смородинники на каменных россыпях. Не хотелось никуда идти, даже вставать не хотелось. Она ощущала только истому, усталость, покой…
На мгновение задремала и вздрогнула, испуганно вскинулась: чья-то тень заслонила солнце.
— Доброе утро, красавица! Больно рано ты поднялась. Или поджидаешь кого?
Напротив, через кювет, на дороге стояли двое мужчин. Одного — круглощёкого увальня в полотняной рубахе-косоворотке, перепоясанной ремешком через круглый живот, Фроська узнала сразу — прораб Брюквин. Второй ей был незнаком: худущий, долговязый, в зелёном габардиновом френче. Это он спрашивал, ухмыляясь в густые "моржовые" усы.
— Вот однако вас и поджидаю, — хмуро отвернулась Фроська. Идут, поди, на стройку спозаранку, ну и шли бы мимо. Нет, обязательно надо прицепиться. Начальство, а всё равно повадки мужичьи, прилипчивые. — Или вы дорогу на плотину забыли? Вон она, за мостом вправо.
— Постыдилась бы, Просекова! — прораб укоризненно покачал головой. — С тобой сам товарищ Денисов разговаривает. Парторг строительства.
— Ну и что как парторг? Или я партейная? — Фроська поднялась, взяла в руки торбу, собираясь в барак. Да и по времени побудка должна быть скоро.
— Подожди минутку, красавица! — усатый бесцеремонно взял Фроську за локоть, усадил опять на завалинку. Сел сам рядом. — Пару вопросов к тебе имеем, ты уж не взыщи. Живёшь-то здесь, в бараке?
— Ну живу…
— И как, устраивают тебя бытовые условия? Или не всё нравится? Говори по-честному, не бойся.
— А я не из пужливых, — сказала Фроська. — А что касательно этих самых, как ты говоришь, условий, так ничего, жить можно. Простыни, наволочки дают, кипяток тоже имеется. Только что грязи полно да клопов много.
— Парни по вечерам не бузят?
— Не… Комендантша до полночи на крылечке сидит. Парням ходу не даёт.
— Ну а как насчёт культурно-массовой работы?
— А уж это я не знаю, чего оно такое, — развела руками Фроська. Потом снова взялась за торбу, поднялась. — Ты меня, дорогой товарищ, не пытай, я тут новенькая. Живу-то всего без году неделя. Ты вон наших девок-бетонщиц поспрашивай.
— Верно она говорит, Михаил Иванович, — вступился за Фроську прораб. — Таёжница, один день всего проработала. Пусть идёт, у них подъём через десять минут.
— Ладно, — согласился парторг. — Мы тут посидим перекурим, а ты, красавица, пойди разбуди, да вызови сюда комендантшу. Скажи: бытовая комиссия пришла.
Ипатьевна как услыхала от Фроськи слово "комиссия", так обмерла вся, побелела, со сна, с перепугу, принялась креститься левой рукой. Прямо в длинной ночной рубахе, босая и простоволосая, кинулась к двери. Впопыхах наступила на кошачий хвост: кот дико завопил, зашипел, и это сразу отрезвило комендантшу, Она зло накинулась на Фроську:
— А ты где шляешься всю ночь, шалава беспутная?! Я ведь видела: топчан-то твой пустой. Натворила, поди, чего, вот и комиссию за собой приволокла.
— Чего мелешь-то, Ипатьевна? — спокойно сказала Фроська. — Опомнись. А то ведь я рассердиться могу. И не погляжу, что ты старуха.
Фроська повернулась, вышла из каморки, громко хлопнула дверью: "Ведьма трусливая"… Бросила торбу под свой топчан, сняла платье, надела рабочие штаны, майку и пошла на речку умываться.
На берегу, прежде чем расстревожить стеклянный блеск заводи, Фроська по давней монастырской привычке с минуту разглядывала своё отражение в воде. Вспомнила, как бегали они по утрам к Раскатихе вдвоём с подружкой веснушчатой Улькой (покойница, царствие ей небесное!) и как расчёсывали тугие косы, глядясь в таинственную серебряную глубь омута — зеркал в обители не держали, мать Авдотьи считала за великий грех "любование" собой.